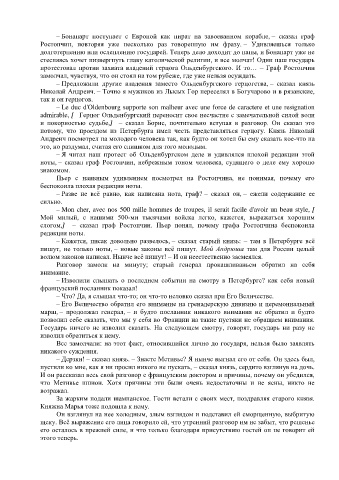Page 170 - Война и мир 2 том
P. 170
– Бонапарт поступает с Европой как пират на завоеванном корабле, – сказал граф
Ростопчин, повторяя уже несколько раз говоренную им фразу. – Удивляешься только
долготерпению или ослеплению государей. Теперь дело доходит до папы, и Бонапарт уже не
стесняясь хочет низвергнуть главу католической религии, и все молчат! Один наш государь
протестовал против захвата владений герцога Ольденбургского. И то… – Граф Ростопчин
замолчал, чувствуя, что он стоял на том рубеже, где уже нельзя осуждать.
– Предложили другие владения заместо Ольденбургского герцогства, – сказал князь
Николай Андреич. – Точно я мужиков из Лысых Гор переселял в Богучарово и в рязанские,
так и он герцогов.
– Le duc d'Oldenbourg supporte son malheur avec une force de caractere et une resignation
admirable, [ Герцог Ольденбургский переносит свое несчастие с замечательной силой воли
и покорностью судьбе,] – сказал Борис, почтительно вступая в разговор. Он сказал это
потому, что проездом из Петербурга имел честь представляться герцогу. Князь Николай
Андреич посмотрел на молодого человека так, как будто он хотел бы ему сказать кое-что на
это, но раздумал, считая его слишком для того молодым.
– Я читал наш протест об Ольденбургском деле и удивлялся плохой редакции этой
ноты, – сказал граф Ростопчин, небрежным тоном человека, судящего о деле ему хорошо
знакомом.
Пьер с наивным удивлением посмотрел на Ростопчина, не понимая, почему его
беспокоила плохая редакция ноты.
– Разве не всё равно, как написана нота, граф? – сказал он, – ежели содержание ее
сильно.
– Mon cher, avec nos 500 mille hommes de troupes, il serait facile d'avoir un beau style, [
Мой милый, с нашими 500-ми тысячами войска легко, кажется, выражаться хорошим
слогом,] – сказал граф Ростопчин. Пьер понял, почему графа Ростопчина беспокоила
pедакция ноты.
– Кажется, писак довольно развелось, – сказал старый князь: – там в Петербурге всё
пишут, не только ноты, – новые законы всё пишут. Мой Андрюша там для России целый
волюм законов написал. Нынче всё пишут! – И он неестественно засмеялся.
Разговор замолк на минуту; старый генерал прокашливаньем обратил на себя
внимание.
– Изволили слышать о последнем событии на смотру в Петербурге? как себя новый
французский посланник показал!
– Что? Да, я слышал что-то; он что-то неловко сказал при Его Величестве.
– Его Величество обратил его внимание на гренадерскую дивизию и церемониальный
марш, – продолжал генерал, – и будто посланник никакого внимания не обратил и будто
позволил себе сказать, что мы у себя во Франции на такие пустяки не обращаем внимания.
Государь ничего не изволил сказать. На следующем смотру, говорят, государь ни разу не
изволил обратиться к нему.
Все замолчали: на этот факт, относившийся лично до государя, нельзя было заявлять
никакого суждения.
– Дерзки! – сказал князь. – Знаете Метивье? Я нынче выгнал его от себя. Он здесь был,
пустили ко мне, как я ни просил никого не пускать, – сказал князь, сердито взглянув на дочь.
И он рассказал весь свой разговор с французским доктором и причины, почему он убедился,
что Метивье шпион. Хотя причины эти были очень недостаточны и не ясны, никто не
возражал.
За жарким подали шампанское. Гости встали с своих мест, поздравляя старого князя.
Княжна Марья тоже подошла к нему.
Он взглянул на нее холодным, злым взглядом и подставил ей сморщенную, выбритую
щеку. Всё выражение его лица говорило ей, что утренний разговор им не забыт, что решенье
его осталось в прежней силе, и что только благодаря присутствию гостей он не говорит ей
этого теперь.