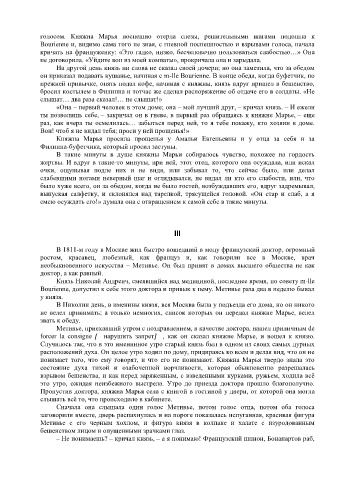Page 168 - Война и мир 2 том
P. 168
голосом. Княжна Марья поспешно отерла слезы, решительными шагами подошла к
Bourienne и, видимо сама того не зная, с гневной поспешностью и взрывами голоса, начала
кричать на француженку: «Это гадко, низко, бесчеловечно пользоваться слабостью…» Она
не договорила. «Уйдите вон из моей комнаты», прокричала она и зарыдала.
На другой день князь ни слова не сказал своей дочери; но она заметила, что за обедом
он приказал подавать кушанье, начиная с m-lle Bourienne. В конце обеда, когда буфетчик, по
прежней привычке, опять подал кофе, начиная с княжны, князь вдруг пришел в бешенство,
бросил костылем в Филиппа и тотчас же сделал распоряжение об отдаче его в солдаты. «Не
слышат… два раза сказал!… не слышат!»
«Она – первый человек в этом доме; она – мой лучший друг, – кричал князь. – И ежели
ты позволишь себе, – закричал он в гневе, в первый раз обращаясь к княжне Марье, – еще
раз, как вчера ты осмелилась… забыться перед ней, то я тебе покажу, кто хозяин в доме.
Вон! чтоб я не видал тебя; проси у ней прощенья!»
Княжна Марья просила прощенья у Амальи Евгеньевны и у отца за себя и за
Филиппа-буфетчика, который просил заступы.
В такие минуты в душе княжны Марьи собиралось чувство, похожее на гордость
жертвы. И вдруг в такие-то минуты, при ней, этот отец, которого она осуждала, или искал
очки, ощупывая подле них и не видя, или забывал то, что сейчас было, или делал
слабевшими ногами неверный шаг и оглядывался, не видал ли кто его слабости, или, что
было хуже всего, он за обедом, когда не было гостей, возбуждавших его, вдруг задремывал,
выпуская салфетку, и склонялся над тарелкой, трясущейся головой. «Он стар и слаб, а я
смею осуждать его!» думала она с отвращением к самой себе в такие минуты.
III
В 1811-м году в Москве жил быстро вошедший в моду французский доктор, огромный
ростом, красавец, любезный, как француз и, как говорили все в Москве, врач
необыкновенного искусства – Метивье. Он был принят в домах высшего общества не как
доктор, а как равный.
Князь Николай Андреич, смеявшийся над медициной, последнее время, по совету m-lle
Bourienne, допустил к себе этого доктора и привык к нему. Метивье раза два в неделю бывал
у князя.
В Николин день, в именины князя, вся Москва была у подъезда его дома, но он никого
не велел принимать; а только немногих, список которых он передал княжне Марье, велел
звать к обеду.
Метивье, приехавший утром с поздравлением, в качестве доктора, нашел приличным de
forcer la consigne [ нарушить запрет] , как он сказал княжне Марье, и вошел к князю.
Случилось так, что в это именинное утро старый князь был в одном из своих самых дурных
расположений духа. Он целое утро ходил по дому, придираясь ко всем и делая вид, что он не
понимает того, что ему говорят, и что его не понимают. Княжна Марья твердо знала это
состояние духа тихой и озабоченной ворчливости, которая обыкновенно разрешалась
взрывом бешенства, и как перед заряженным, с взведенными курками, ружьем, ходила всё
это утро, ожидая неизбежного выстрела. Утро до приезда доктора прошло благополучно.
Пропустив доктора, княжна Марья села с книгой в гостиной у двери, от которой она могла
слышать всё то, что происходило в кабинете.
Сначала она слышала один голос Метивье, потом голос отца, потом оба голоса
заговорили вместе, дверь распахнулась и на пороге показалась испуганная, красивая фигура
Метивье с его черным хохлом, и фигура князя в колпаке и халате с изуродованным
бешенством лицом и опущенными зрачками глаз.
– Не понимаешь? – кричал князь, – а я понимаю! Французский шпион, Бонапартов раб,