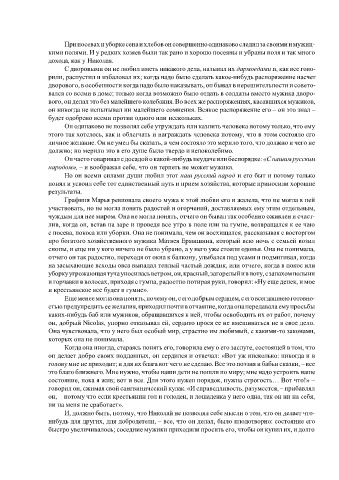Page 148 - Война и мир 4 том
P. 148
При посевах и уборке сена и хлебов он совершенно одинаково следил за своими и мужиц-
кими полями. И у редких хозяев были так рано и хорошо посеяны и убраны поля и так много
дохода, как у Николая.
С дворовыми он не любил иметь никакого дела, называл их дармоедами и, как все гово-
рили, распустил и избаловал их; когда надо было сделать какое-нибудь распоряжение насчет
дворового, в особенности когда надо было наказывать, он бывал в нерешительности и совето-
вался со всеми в доме; только когда возможно было отдать в солдаты вместо мужика дворо-
вого, он делал это без малейшего колебания. Во всех же распоряжениях, касавшихся мужиков,
он никогда не испытывал ни малейшего сомнения. Всякое распоряжение его – он это знал –
будет одобрено всеми против одного или нескольких.
Он одинаково не позволял себе утруждать или казнить человека потому только, что ему
этого так хотелось, как и облегчать и награждать человека потому, что в этом состояло его
личное желание. Он не умел бы сказать, в чем состояло это мерило того, что должно и чего не
должно; но мерило это в его душе было твердо и непоколебимо.
Он часто говаривал с досадой о какой-нибудь неудаче или беспорядке: «С нашим русским
народом», – и воображал себе, что он терпеть не может мужика.
Но он всеми силами души любил этот наш русский народ и его быт и потому только
понял и усвоил себе тот единственный путь и прием хозяйства, которые приносили хорошие
результаты.
Графиня Марья ревновала своего мужа к этой любви его и жалела, что не могла в ней
участвовать, но не могла понять радостей и огорчений, доставляемых ему этим отдельным,
чуждым для нее миром. Она не могла понять, отчего он бывал так особенно оживлен и счаст-
лив, когда он, встав на заре и проведя все утро в поле или на гумне, возвращался к ее чаю
с посева, покоса или уборки. Она не понимала, чем он восхищался, рассказывая с восторгом
про богатого хозяйственного мужика Матвея Ермишина, который всю ночь с семьей возил
снопы, и еще ни у кого ничего не было убрано, а у него уже стояли одонья. Она не понимала,
отчего он так радостно, переходя от окна к балкону, улыбался под усами и подмигивал, когда
на засыхающие всходы овса выпадал теплый частый дождик, или отчего, когда в покос или
уборку угрожающая туча уносилась ветром, он, красный, загорелый и в поту, с запахом полыни
и горчавки в волосах, приходя с гумна, радостно потирая руки, говорил: «Ну еще денек, и мое
и крестьянское все будет в гумне».
Еще менее могла она понять, почему он, с его добрым сердцем, с его всегдашнею готовно-
стью предупредить ее желания, приходил почти в отчаяние, когда она передавала ему просьбы
каких-нибудь баб или мужиков, обращавшихся к ней, чтобы освободить их от работ, почему
он, добрый Nicolas, упорно отказывал ей, сердито прося ее не вмешиваться не в свое дело.
Она чувствовала, что у него был особый мир, страстно им любимый, с какими-то законами,
которых она не понимала.
Когда она иногда, стараясь понять его, говорила ему о его заслуге, состоящей в том, что
он делает добро своих подданных, он сердился и отвечал: «Вот уж нисколько: никогда и в
голову мне не приходит; и для их блага вот чего не сделаю. Все это поэзия и бабьи сказки, – все
это благо ближнего. Мне нужно, чтобы наши дети не пошли по миру; мне надо устроить наше
состояние, пока я жив; вот и все. Для этого нужен порядок, нужна строгость… Вот что!» –
говорил он, сжимая свой сангвинический кулак. «И справедливость, разумеется, – прибавлял
он, – потому что если крестьянин гол и голоден, и лошаденка у него одна, так он ни на себя,
ни на меня не сработает».
И, должно быть, потому, что Николай не позволял себе мысли о том, что он делает что-
нибудь для других, для добродетели, – все, что он делал, было плодотворно: состояние его
быстро увеличивалось; соседние мужики приходили просить его, чтобы он купил их, и долго