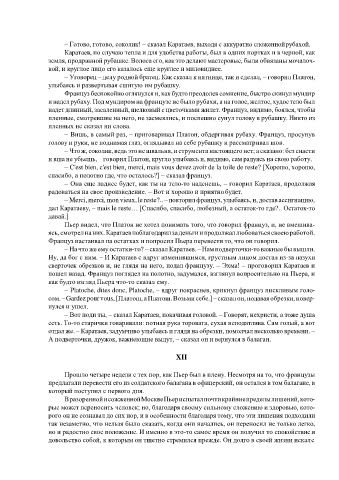Page 56 - Война и мир 4 том
P. 56
– Готово, готово, соколик! – сказал Каратаев, выходя с аккуратно сложенной рубахой.
Каратаев, по случаю тепла и для удобства работы, был в одних портках и в черной, как
земля, продранной рубашке. Волоса его, как это делают мастеровые, были обвязаны мочалоч-
кой, и круглое лицо его казалось еще круглее и миловиднее.
– Уговорец – делу родной братец. Как сказал к пятнице, так и сделал, – говорил Платон,
улыбаясь и развертывая сшитую им рубашку.
Француз беспокойно оглянулся и, как будто преодолев сомнение, быстро скинул мундир
и надел рубаху. Под мундиром на французе не было рубахи, а на голое, желтое, худое тело был
надет длинный, засаленный, шелковый с цветочками жилет. Француз, видимо, боялся, чтобы
пленные, смотревшие на него, не засмеялись, и поспешно сунул голову в рубашку. Никто из
пленных не сказал ни слова.
– Вишь, в самый раз, – приговаривал Платон, обдергивая рубаху. Француз, просунув
голову и руки, не поднимая глаз, оглядывал на себе рубашку и рассматривал шов.
– Что ж, соколик, ведь это не швальня, и струмента настоящего нет; а сказано: без снасти
и вша не убьешь, – говорил Платон, кругло улыбаясь и, видимо, сам радуясь на свою работу.
– C'est bien, c'est bien, merci, mais vous devez avoir de la toile de reste? [Хорошо, хорошо,
спасибо, а полотно где, что осталось?] – сказал француз.
– Она еще ладнее будет, как ты на тело-то наденешь, – говорил Каратаев, продолжая
радоваться на свое произведение. – Вот и хорошо и приятно будет.
– Merci, merci, mon vieux, le reste?.. – повторил француз, улыбаясь, и, достав ассигнацию,
дал Каратаеву, – mais le reste… [Спасибо, спасибо, любезный, а остаток-то где?.. Остаток-то
давай.]
Пьер видел, что Платон не хотел понимать того, что говорил француз, и, не вмешива-
ясь, смотрел на них. Каратаев поблагодарил за деньги и продолжал любоваться своею работой.
Француз настаивал на остатках и попросил Пьера перевести то, что он говорил.
– На что же ему остатки-то? – сказал Каратаев. – Нам подверточки-то важные бы вышли.
Ну, да бог с ним. – И Каратаев с вдруг изменившимся, грустным лицом достал из-за пазухи
сверточек обрезков и, не глядя на него, подал французу. – Эхма! – проговорил Каратаев и
пошел назад. Француз поглядел на полотно, задумался, взглянул вопросительно на Пьера, и
как будто взгляд Пьера что-то сказал ему.
– Platoche, dites donc, Platoche, – вдруг покраснев, крикнул француз пискливым голо-
сом. – Gardez pour vous, [Платош, а Платош. Возьми себе.] – сказал он, подавая обрезки, повер-
нулся и ушел.
– Вот поди ты, – сказал Каратаев, покачивая головой. – Говорят, нехристи, а тоже душа
есть. То-то старички говаривали: потная рука торовата, сухая неподатлива. Сам голый, а вот
отдал же. – Каратаев, задумчиво улыбаясь и глядя на обрезки, помолчал несколько времени. –
А подверточки, дружок, важнеющие выдут, – сказал он и вернулся в балаган.
XII
Прошло четыре недели с тех пор, как Пьер был в плену. Несмотря на то, что французы
предлагали перевести его из солдатского балагана в офицерский, он остался в том балагане, в
который поступил с первого дня.
В разоренной и сожженной Москве Пьер испытал почти крайние пределы лишений, кото-
рые может переносить человек; но, благодаря своему сильному сложению и здоровью, кото-
рого он не сознавал до сих пор, и в особенности благодаря тому, что эти лишения подходили
так незаметно, что нельзя было сказать, когда они начались, он переносил не только легко,
но и радостно свое положение. И именно в это-то самое время он получил то спокойствие и
довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде. Он долго в своей жизни искал с