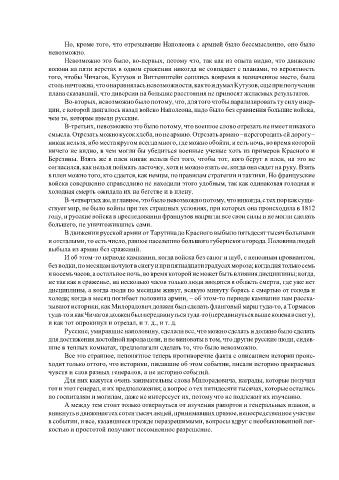Page 98 - Война и мир 4 том
P. 98
Но, кроме того, что отрезывание Наполеона с армией было бессмысленно, оно было
невозможно.
Невозможно это было, во-первых, потому что, так как из опыта видно, что движение
колонн на пяти верстах в одном сражении никогда не совпадает с планами, то вероятность
того, чтобы Чичагов, Кутузов и Витгенштейн сошлись вовремя в назначенное место, была
столь ничтожна, что она равнялась невозможности, как то и думал Кутузов, еще при получении
плана сказавший, что диверсии на большие расстояния не приносят желаемых результатов.
Во-вторых, невозможно было потому, что, для того чтобы парализировать ту силу инер-
ции, с которой двигалось назад войско Наполеона, надо было без сравнения большие войска,
чем те, которые имели русские.
В-третьих, невозможно это было потому, что военное слово отрезать не имеет никакого
смысла. Отрезать можно кусок хлеба, но не армию. Отрезать армию – перегородить ей дорогу –
никак нельзя, ибо места кругом всегда много, где можно обойти, и есть ночь, во время которой
ничего не видно, в чем могли бы убедиться военные ученые хоть из примеров Красного и
Березины. Взять же в плен никак нельзя без того, чтобы тот, кого берут в плен, на это не
согласился, как нельзя поймать ласточку, хотя и можно взять ее, когда она сядет на руку. Взять
в плен можно того, кто сдается, как немцы, по правилам стратегии и тактики. Но французские
войска совершенно справедливо не находили этого удобным, так как одинаковая голодная и
холодная смерть ожидала их на бегстве и в плену.
В-четвертых же, и главное, это было невозможно потому, что никогда, с тех пор как суще-
ствует мир, не было войны при тех страшных условиях, при которых она происходила в 1812
году, и русские войска в преследовании французов напрягли все свои силы и не могли сделать
большего, не уничтожившись сами.
В движении русской армии от Тарутина до Красного выбыло пятьдесят тысяч больными
и отсталыми, то есть число, равное населению большого губернского города. Половина людей
выбыла из армии без сражений.
И об этом-то периоде кампании, когда войска без сапог и шуб, с неполным провиантом,
без водки, по месяцам ночуют в снегу и при пятнадцати градусах мороза; когда дня только семь
и восемь часов, а остальное ночь, во время которой не может быть влияния дисциплины; когда,
не так как в сраженье, на несколько часов только люди вводятся в область смерти, где уже нет
дисциплины, а когда люди по месяцам живут, всякую минуту борясь с смертью от голода и
холода; когда в месяц погибает половина армии, – об этом-то периоде кампании нам расска-
зывают историки, как Милорадович должен был сделать фланговый марш туда-то, а Тормасов
туда-то и как Чичагов должен был передвинуться туда-то (передвинуться выше колена в снегу),
и как тот опрокинул и отрезал, и т. д., и т. д.
Русские, умиравшие наполовину, сделали все, что можно сделать и должно было сделать
для достижения достойной народа цели, и не виноваты в том, что другие русские люди, сидев-
шие в теплых комнатах, предполагали сделать то, что было невозможно.
Все это странное, непонятное теперь противоречие факта с описанием истории проис-
ходит только оттого, что историки, писавшие об этом событии, писали историю прекрасных
чувств и слов разных генералов, а не историю событий.
Для них кажутся очень занимательны слова Милорадовича, награды, которые получил
тот и этот генерал, и их предположения; а вопрос о тех пятидесяти тысячах, которые остались
по госпиталям и могилам, даже не интересует их, потому что не подлежит их изучению.
А между тем стоит только отвернуться от изучения рапортов и генеральных планов, а
вникнуть в движение тех сотен тысяч людей, принимавших прямое, непосредственное участие
в событии, и все, казавшиеся прежде неразрешимыми, вопросы вдруг с необыкновенной лег-
костью и простотой получают несомненное разрешение.