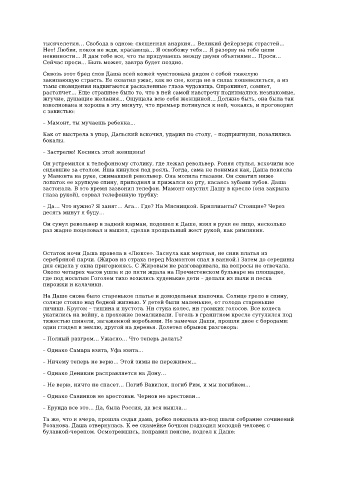Page 122 - Хождение по мукам. Восемнадцатый год
P. 122
тысячелетия… Свобода в одном: священная анархия… Великий фейерверк страстей…
Нет! Любви, покоя не жди, красавица… Я освобожу тебя… Я разорву на тебе цепи
невинности… Я дам тебе все, что ты придумаешь между двумя объятиями… Проси…
Сейчас проси… Быть может, завтра будет поздно.
Сквозь этот бред слов Даша всей кожей чувствовала рядом с собой тяжелую
закипающую страсть. Ее охватил ужас, как во сне, когда не в силах пошевелиться, а из
тьмы сновидения надвигаются раскаленные глаза чудовища. Опрокинет, сомнет,
растопчет… Еще страшнее было то, что в ней самой навстречу поднимались незнакомые,
жгучие, душащие желания… Ощущала всю себя женщиной… Должно быть, она была так
взволнована и хороша в эту минуту, что премьер потянулся к ней, чокаясь, и проговорил
с завистью:
– Мамонт, ты мучаешь ребенка…
Как от выстрела в упор, Дальский вскочил, ударил по столу, – подпрыгнули, повалились
бокалы.
– Застрелю! Коснись этой женщины!
Он устремился к телефонному столику, где лежал револьвер. Роняя стулья, вскочили все
сидевшие за столом. Яша кинулся под рояль. Тогда, сама не понимая как, Даша повисла
у Мамонта на руке, сжимавшей револьвер. Она молила глазами. Он схватил ниже
лопаток ее хрупкую спину, приподнял и прижался ко рту, касаясь зубами зубов. Даша
застонала. В это время зазвонил телефон. Мамонт опустил Дашу в кресло (она закрыла
глаза рукой), сорвал телефонную трубку:
– Да… Что нужно? Я занят… Ага… Где? На Мясницкой. Бриллианты? Стоящие? Через
десять минут я буду…
Он сунул револьвер в задний карман, подошел к Даше, взял в руки ее лицо, несколько
раз жадно поцеловал и вышел, сделав прощальный жест рукой, как римлянин.
Остаток ночи Даша провела в «Люксе». Заснула как мертвая, не сняв платья из
серебряной парчи. (Жиров из страха перед Мамонтом спал в ванной.) Затем до середины
дня сидела у окна пригорюнясь. С Жировым не разговаривала, на вопросы не отвечала.
Около четырех часов ушла и до пяти ждала на Пречистенском бульваре на площадке,
где под носатым Гоголем тихо возились худенькие дети – делали из пыли и песка
пирожки и калачики.
На Даше снова было старенькое платье и домодельная шапочка. Солнце грело в спину,
солнце стояло над бедной жизнью. У детей были маленькие, от голода старенькие
личики. Кругом – тишина и пустота. Ни стука колес, ни громких голосов. Все колеса
укатились на войну, а прохожие помалкивали. Гоголь в гранитном кресле сутулился под
тяжестью шинели, загаженной воробьями. Не замечая Даши, прошли двое с бородами:
один глядел в землю, другой на деревья. Долетел обрывок разговора:
– Полный разгром… Ужасно… Что теперь делать?
– Однако Самара взята, Уфа взята…
– Ничему теперь не верю… Этой зимы не переживем…
– Однако Деникин расправляется на Дону…
– Не верю, ничто не спасет… Погиб Вавилон, погиб Рим, и мы погибнем…
– Однако Савинков не арестован. Чернов не арестован…
– Ерунда все это… Да, была Россия, да вся вышла…
Та же, что и вчера, прошла седая дама, робко показала из-под шали собрание сочинений
Розанова. Даша отвернулась. К ее скамейке бочком подходил молодой человек с
булавкой-черепом. Осмотревшись, поправил пенсне, подсел к Даше: