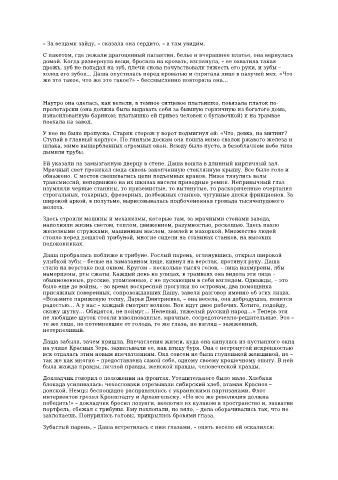Page 124 - Хождение по мукам. Восемнадцатый год
P. 124
– За вещами зайду, – сказала она сердито, – а там увидим.
С пакетом, где лежали драгоценный палантин, белье и вчерашнее платье, она вернулась
домой. Когда развернула вещи, бросила на кровать, взглянула, – ее охватила такая
дрожь, зуб не попадал на зуб, плечи снова почувствовали тяжесть его руки, и зубы –
холод его зубов… Даша опустилась перед кроватью и спрятала лицо в пахучий мех. «Что
же это такое, что же это такое?» – бессмысленно повторяла она…
Наутро она оделась, как велели, в темное ситцевое платьишко, повязала платок по-
пролетарски (она должна была выдавать себя за бывшую горничную из богатого дома,
изнасилованную барином; платьишко ей привез человек с булавочкой) и на трамвае
поехала на завод.
У нее не было пропуска. Старик сторож у ворот подмигнул ей: «Что, девка, на митинг?
Ступай в главный корпус». По гнилым доскам она пошла мимо свалок ржавого железа и
шлака, мимо выщербленных огромных окон. Всюду было пусто, в безоблачном небе тихо
дымили трубы.
Ей указали на замызганную дверцу в стене. Даша вошла в длинный кирпичный зал.
Мрачный свет проникал сюда сквозь закопченную стеклянную крышу. Все было голо и
обнажено. С мостов свешивались цепи подъемных кранов. Ниже тянулись валы
трансмиссий, неподвижно на их шкивах висели приводные ремни. Непривычный глаз
изумляли черные станины, то приземистые, то вытянутые, то раскоряченные очертания
строгальных, токарных, фрезерных, долбежных станков, чугунные диски фрикционов. За
широкой аркой, в полутьме, вырисовывалась подбочененная громада тысячепудового
молота.
Здесь строили машины и механизмы, которые там, за мрачными стенами завода,
наполняли жизнь светом, теплом, движением, разумностью, роскошью. Здесь пахло
железными стружками, машинным маслом, землей и махоркой. Множество людей
стояло перед дощатой трибуной, многие сидели на станинах станков, на высоких
подоконниках.
Даша пробралась поближе к трибуне. Рослый парень, оглянувшись, открыл широкой
улыбкой зубы – белые на замазанном лице, кивнул на верстак, протянул руку. Даша
стала на верстаке под окном. Кругом – несколько тысяч голов, – лица нахмурены, лбы
наморщены, рты сжаты. Каждый день на улицах, в трамваях она видела эти лица –
обыкновенные, русские, утомленные, с не пускающим в себя взглядом. Однажды, – это
было еще до войны, – во время воскресной прогулки по островам, два помощника
присяжных поверенных, сопровождавших Дашу, завели разговор именно об этих лицах.
«Возьмите парижскую толпу, Дарья Дмитриевна, – она весела, она добродушна, пенится
радостью… А у нас – каждый смотрит волком. Вон идут двое рабочих. Хотите, подойду,
скажу шутку… Обидятся, не поймут… Нелепый, тяжелый русский народ…» Теперь эти
не любящие шуток стояли взволнованные, мрачные, сосредоточенно-решительные. Это –
те же лица, но потемневшие от голода, те же глаза, но взгляд – зажженный,
нетерпеливый.
Даша забыла, зачем пришла. Впечатления жизни, куда она кинулась из пустынного окна
на улице Красных Зорь, захватывали ее, как птицу буря. Она с нетронутой искренностью
вся отдалась этим новым впечатлениям. Она совсем не была глупенькой женщиной, но –
так же как многие – предоставлена самой себе, одному своему крошечному опыту. В ней
была жажда правды, личной правды, женской правды, человеческой правды.
Докладчик говорил о положении на фронтах. Утешительного было мало. Хлебная
блокада усиливалась: чехословаки отрезывали сибирский хлеб, атаман Краснов –
донской. Немцы беспощадно расправлялись с украинскими партизанами. Флот
интервентов грозил Кронштадту и Архангельску. «Но все же революция должна
победить!» – докладчик бросил лозунги, вколотил их кулаком в пространство и, захватив
портфель, сбежал с трибуны. Ему похлопали, но вяло, – дела оборачивались так, что не
захлопаешь. Понурились головы, прикрылись бровями глаза.
Зубастый парень, – Даша встретилась с ним глазами, – опять весело ей оскалился: