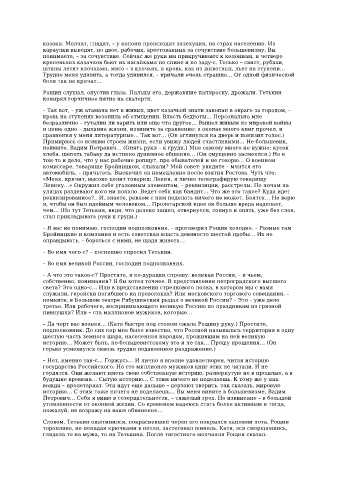Page 21 - Хождение по мукам. Восемнадцатый год
P. 21
казаки. Молчат, глядят, – у колонн происходит экзекуция, на страх населению. Из
караулки выводят, по двое, рабочих, арестованных за сочувствие большевизму. Вы
понимаете, – за сочувствие. Сейчас же руки им прикручивают к колоннам, и четверо
крепеньких казачков бьют их нагайками по спине и по заду-с. Только – свист, рубахи,
штаны летят клочками, мясо – в клочьях, и кровь, как из животных, льет на ступени…
Трудно меня удивить, а тогда удивился, – кричали очень страшно… От одной физической
боли так не кричат…
Рощин слушал, опустив глаза. Пальцы его, державшие папироску, дрожали. Тетькин
ковырял горчичное пятно на скатерти.
– Так вот, – уж атамана нет в живых, цвет казачьей знати закопан в овраге за городом, –
кровь на ступенях возопила об отмщении. Власть бедноты… Персонально мне
безразлично – гуталин ли варить или еще что другое… Вышел живым из мировой войны
и ценю одно – дыхание жизни, извините за сравнение: в окопах много книг прочел, и
сравнения у меня литературные… Так вот… (Он оглянулся на дверь и понизил голос.)
Примирюсь со всяким строем жизни, если увижу людей счастливыми… Не большевик,
поймите, Вадим Петрович… (Опять руки – к груди.) Мне самому много не нужно: кусок
хлеба, щепоть табаку да истинно душевное общение… (Он смущенно засмеялся.) Но в
том-то и дело, что у нас рабочие ропщут, про обывателей и не говорю… О военном
комиссаре, товарище Бройницком, слыхали? Мой совет: увидите – мчится его
автомобиль, – прячьтесь. Выскочил он немедленно после взятия Ростова. Чуть что:
«Меня, кричит, высоко ценит товарищ Ленин, я лично телеграфирую товарищу
Ленину…» Окружил себя уголовным элементом, – реквизиции, расстрелы. По ночам на
улицах раздевают кого ни попало. Ведет себя как бандит… Что же это такое? Куда идет
реквизированное?.. И, знаете, ревком с ним поделать ничего не может. Боятся… Не верю
я, чтобы он был идейным человеком… Пролетарской идее он больше вреда наделает,
чем… (Но тут Тетькин, видя, что далеко зашел, отвернулся, сопнул и опять, уже без слов,
стал прикладывать руки к груди.)
– Я вас не понимаю, господин подполковник, – проговорил Рощин холодно. – Разные там
Бройницкие и компания и есть советская власть девяносто шестой пробы… Их не
оправдывать, – бороться с ними, не щадя живота…
– Во имя чего-с? – поспешно спросил Тетькин.
– Во имя великой России, господин подполковник.
– А что это такое-с? Простите, я по-дурацки спрошу: великая Россия, – в чьем,
собственно, понимании? Я бы хотел точнее. В представлении петроградского высшего
света? Это одно‑с… Или в представлении стрелкового полка, в котором мы с вами
служили, геройски погибшего на проволоках? Или московского торгового совещания, –
помните, в Большом театре Рябушинский рыдал о великой России? – Это – уже дело
третье. Или рабочего, воспринимающего великую Россию по праздникам из грязной
пивнушки? Или – ста миллионов мужиков, которые…
– Да черт вас возьми… (Катя быстро под столом сжала Рощину руку.) Простите,
подполковник. До сих пор мне было известно, что Россией называлась территория в одну
шестую часть земного шара, населенная народом, прожившим на ней великую
историю… Может быть, по-большевистскому это и не так… Прошу прощения… (Он
горько усмехнулся сквозь трудно подавленное раздражение.)
– Нет, именно так-с… Горжусь… И лично я вполне удовлетворен, читая историю
государства Российского. Но сто миллионов мужиков книг этих не читали. И не
гордятся. Они желают иметь свою собственную историю, развернутую не в прошлые, а в
будущие времена… Сытую историю… С этим ничего не поделаешь. К тому же у них
вожди – пролетариат. Эти идут еще дальше – дерзают творить, так сказать, мировую
историю… С этим тоже ничего не поделаешь… Вы меня вините в большевизме, Вадим
Петрович… Себя я виню в созерцательности, – тяжелый грех. Но извинение – в большой
утомленности от окопной жизни. Со временем надеюсь стать более активным и тогда,
пожалуй, не возражу на ваше обвинение…
Словом, Тетькин ощетинился, покрасневший череп его покрылся каплями пота. Рощин
торопливо, не попадая крючками в петли, застегивал шинель. Катя, вся сморщившись,
глядела то на мужа, то на Тетькина. После тягостного молчания Рощин сказал: