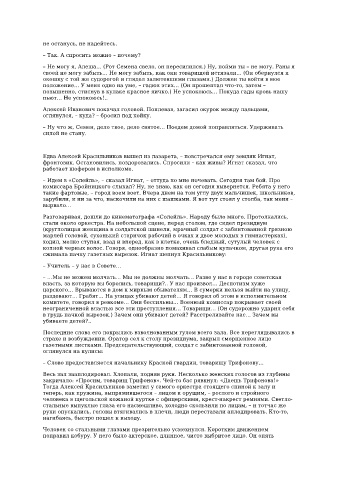Page 23 - Хождение по мукам. Восемнадцатый год
P. 23
не останусь, не надейтесь.
– Так. А спросить можно – почему?
– Не могу я, Алеша… (Рот Семена свело, он пересилился.) Ну, пойми ты – не могу. Раны я
своей не могу забыть… Не могу забыть, как они товарищей истязали… (Он обернулся к
окошку с той же судорогой и глядел залютевшими глазами.) Должен ты войти в мое
положение… У меня одно на уме, – гадюк этих… (Он прошептал что-то, затем –
повышенно, стиснув в кулаке красное яичко.) Не успокоюсь… Покуда гады кровь нашу
пьют… Не успокоюсь!..
Алексей Иванович покачал головой. Поплевав, загасил окурок между пальцами,
оглянулся, – куда? – бросил под койку.
– Ну что ж, Семен, дело твое, дело святое… Поедем домой поправляться. Удерживать
силой не стану.
Едва Алексей Красильников вышел из лазарета, – повстречался ему земляк Игнат,
фронтовик. Остановились, поздоровались. Спросили – как живы? Игнат сказал, что
работает шофером в исполкоме.
– Идем в «Солейль», – сказал Игнат, – оттуда ко мне ночевать. Сегодня там бой. Про
комиссара Бройницкого слыхал? Ну, не знаю, как он сегодня вывернется. Ребята у него
такие фартовые, – город воем воет. Вчера днем на том углу двух мальчишек, школьников,
зарубили, и ни за что, наскочили на них с шашками. Я вот тут стоял у столба, так меня –
вырвало…
Разговаривая, дошли до кинематографа «Солейль». Народу было много. Протолкались,
стали около оркестра. На небольшой сцене, перед столом, где сидел президиум
(круглолицая женщина в солдатской шинели, мрачный солдат с забинтованной грязною
марлей головой, сухонький старичок рабочий в очках и двое молодых в гимнастерках),
ходил, мелко ступая, взад и вперед, как в клетке, очень бледный, сутулый человек с
копной черных волос. Говоря, однообразно помахивал слабым кулачком, другая рука его
сжимала пачку газетных вырезок. Игнат шепнул Красильникову:
– Учитель – у нас в Совете…
– …Мы не можем молчать… Мы не должны молчать… Разве у нас в городе советская
власть, за которую вы боролись, товарищи?.. У нас произвол… Деспотизм хуже
царского… Врываются в дом к мирным обывателям… В сумерки нельзя выйти на улицу,
раздевают… Грабят… На улицах убивают детей… Я говорил об этом в исполнительном
комитете, говорил в ревкоме… Они бессильны… Военный комиссар покрывает своей
неограниченной властью все эти преступления… Товарищи… (Он судорожно ударил себя
в грудь пачкой вырезок.) Зачем они убивают детей? Расстреливайте нас… Зачем вы
убиваете детей?..
Последние слова его покрылись взволнованным гулом всего зала. Все переглядывались в
страхе и возбуждении. Оратор сел к столу президиума, закрыл сморщенное лицо
газетными листками. Председательствующий, солдат с забинтованной головой,
оглянулся на кулисы:
– Слово предоставляется начальнику Красной гвардии, товарищу Трифонову…
Весь зал зааплодировал. Хлопали, подняв руки. Несколько женских голосов из глубины
закричало: «Просим, товарищ Трифонов». Чей-то бас рявкнул: «Даешь Трифонова!»
Тогда Алексей Красильников заметил у самого оркестра стоящего спиной к залу и
теперь, как пружина, выпрямившегося – лицом к орущим, – рослого и стройного
человека в щегольской кожаной куртке с офицерскими, крест-накрест ремнями. Светло-
стальные выпуклые глаза его насмешливо, холодно скользили по лицам, – и тотчас же
руки опускались, головы втягивались в плечи, люди переставали аплодировать. Кто-то,
нагибаясь, быстро пошел к выходу.
Человек со стальными глазами презрительно усмехнулся. Коротким движением
поправил кобуру. У него было актерское, длинное, чисто выбритое лицо. Он опять