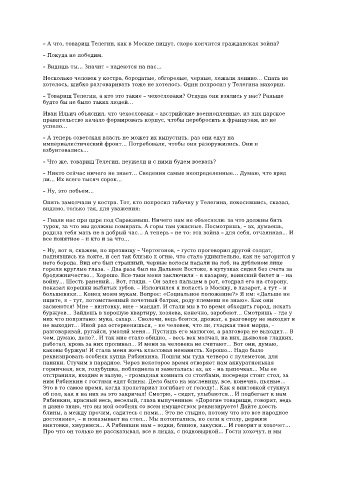Page 59 - Хождение по мукам. Восемнадцатый год
P. 59
– А что, товарищ Телегин, как в Москве пишут, скоро кончится гражданская война?
– Покуда не победим.
– Видишь ты… Значит – надеются на нас…
Несколько человек у костра, бородатые, обгорелые, черные, лежали лениво… Спать не
хотелось, шибко разговаривать тоже не хотелось. Один попросил у Телегина махорки.
– Товарищ Телегин, а кто это такие – чехословаки? Откуда они взялись у нас? Раньше
будто бы не было таких людей…
Иван Ильич объяснил, что чехословаки – австрийские военнопленные, из них царское
правительство начало формировать корпус, чтобы перебросить к французам, но не
успело…
– А теперь советская власть не может их выпустить, раз они едут на
империалистический фронт… Потребовали, чтобы они разоружились. Они и
взбунтовались…
– Что же, товарищ Телегин, неужели и с ними будем воевать?
– Никто сейчас ничего не знает… Сведения самые неопределенные… Думаю, что вряд
ли… Их всего тысяч сорок…
– Ну, это побьем…
Опять замолчали у костра. Тот, кто попросил табачку у Телегина, покосившись, сказал,
видимо, только так, для уважения:
– Гнали нас при царе под Саракамыш. Ничего нам не объясняли: за что должны бить
турок, за что мы должны помирать. А горы там ужасные. Посмотришь, – ах, думаешь,
родила тебя мать не в добрый час… А теперь – не то: эта война – для себя, отчаянная… И
все понятное – и кто и за что…
– Ну, вот я, скажем, по прозвищу – Чертогонов, – густо проговорил другой солдат,
поднявшись на локте, и сел так близко к огню, что стало удивительно, как не загорится у
него борода. Вид его был страшный, черные волосы падали на лоб, на дубленом лице
горели круглые глаза. – Два раза был на Дальнем Востоке, в кутузках сидел без счета за
бродяжничество… Хорошо. Все-таки меня заключили – в казарму, воинский билет и – на
войну… Шесть ранений… Вот, гляди. – Он залез пальцем в рот, отодрал его на сторону,
показал корешки выбитых зубов. – Изловчился я попасть в Москву, в лазарет, а тут – и
большевики… Конец моим мукам. Вопрос: «Социальное положение?» Я им: «Дальше не
ищите, я – тут, потомственный почетный батрак, роду-племени не знаю». Как они
засмеются! Мне – винтовку, мне – мандат. И стали мы в то время обходить город, искать
буржуев… Зайдешь в хорошую квартиру, хозяева, конечно, заробеют… Смотришь – где у
них что попрятано: мука, сахар… Сволочи, ведь боятся, дрожат, а разговору не выходит и
не выходит… Иной раз остервенишься, – не человек, что ли, гладкая твоя морда, –
разговаривай, ругайся, умоляй меня… Пустишь его матюгом, а разговора не выходит… В
чем, думаю, дело?.. И так мне стало обидно, – весь век молчал, на них, дьяволов гладких,
работал, кровь за них проливал… И меня за человека не считают… Вот они, думаю,
каковы буржуи! И стала меня жечь классовая ненависть. Хорошо… Надо было
реквизировать особняк купца Рябинкина. Пошли мы туда четверо с пулеметом, для
паники. Стучим в парадное. Через некоторое время отворяет нам аккуратненькая
горничная, вся, голубушка, побледнела и заметалась: ах, ах – на цыпочках… Мы ее
отстранили, входим в залую, – громадная комната со столбами, посереди стоит стол, за
ним Рябинкин с гостями едят блины. Дело было на масленицу, все, конечно, пьяные…
Это в то самое время, когда пролетариат погибает от голоду!.. Как я винтовкой стукнул
об пол, как я на них за это закричал! Смотрю, – сидят, улыбаются… И подбегает к нам
Рябинкин, красный весь, веселый, глаза выпученные: «Дорогие товарищи, говорит, ведь
я давно знаю, что вы мой особняк со всем имуществом реквизируете! Дайте доесть
блины, а между прочим, садитесь с нами… Это не стыдно, потому что это все народное
достояние», – и показывает на стол… Мы потоптались, но сели к столу, держим
винтовки, хмуримся… А Рябинкин нам – водки, блинов, закуски… И говорит и хохочет…
Про что он только не рассказывал, все в лицах, с подковыркой… Гости хохочут, и мы