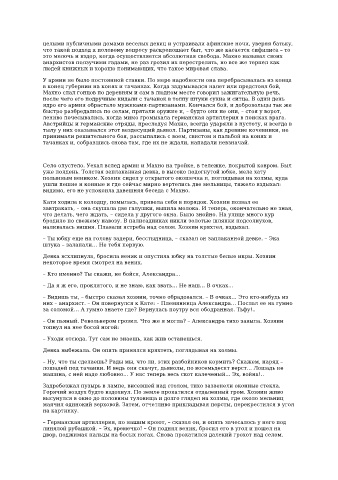Page 97 - Хождение по мукам. Восемнадцатый год
P. 97
целыми публичными домами веселых девиц и устраивали афинские ночи, уверяя батьку,
что такой подход к половому вопросу раскрепощает быт, что же касается сифилиса – то
это мелочь и вздор, когда осуществляется абсолютная свобода. Махно называл своих
анархистов ползучими гадами, не раз грозил их перестрелять, но все же терпел как
людей книжных и хорошо понимающих, что такое мировая слава.
У армии не было постоянной ставки. По мере надобности она перебрасывалась из конца
в конец губернии на конях и тачанках. Когда задумывался налет или предстоял бой,
Махно слал гонцов по деревням и сам в людном месте говорил зажигательную речь,
после чего его подручные кидали с тачанок в толпу штуки сукна и ситца. В один день
ядро его армии обрастало мужиками-партизанами. Кончался бой, и добровольцы так же
быстро разбредались по селам, прятали оружие и, – будто они не они, – стоя у ворот,
лениво почесывались, когда мимо громыхала германская артиллерия в поисках врага.
Австрийцы и германские отряды, преследуя Махно, всегда ударяли в пустоту, и всегда в
тылу у них оказывался этот вездесущий дьявол. Партизаны, как древние кочевники, не
принимали решительного боя, рассыпались с воем, свистом и пальбой на конях и
тачанках и, собравшись снова там, где их не ждали, нападали невзначай.
Село опустело. Уехал вслед армии и Махно на тройке, в тележке, покрытой ковром. Был
уже полдень. Толстая заплаканная девка, в высоко подогнутой юбке, мела хату
полынным веником. Хозяин сидел у открытого окошечка и, поглядывая на холмы, куда
ушли пешие и конные и где сейчас мирно вертелись две мельницы, тяжело вздыхал:
видимо, его не успокоила давешняя беседа с Махно.
Катя ходила к колодцу, помылась, привела себя в порядок. Хозяин позвал ее
завтракать, – она скушала две галушки, выпила молока. И теперь, окончательно не зная,
что делать, чего ждать, – сидела у другого окна. Было знойно. На улице много кур
бродило по свежему навозу. В палисадниках никли золотые шляпки подсолнухов,
наливалась вишня. Плавали ястреба над селом. Хозяин кряхтел, вздыхал.
– Ты юбку еще на голову задери, бесстыдница, – сказал он заплаканной девке. – Эка
штука – залапали… Не тебя первую.
Девка всхлипнула, бросила веник и опустила юбку на толстые белые икры. Хозяин
некоторое время смотрел на веник.
– Кто именно? Ты скажи, не бойся, Александра…
– Да я ж его, проклятого, и не знаю, как звать… Не наш… В очках…
– Видишь ты, – быстро сказал хозяин, точно обрадовался. – В очках… Это кто-нибудь из
них – анархист. – Он повернулся к Кате: – Племянница Александра… Послал ее на гумно
за соломой… А гумно знаете где? Вернулась поутру вся ободранная. Тьфу!..
– Он пьяный. Револьвером грозил. Что же я могла? – Александра тихо завыла. Хозяин
топнул на нее босой ногой:
– Уходи отсюда. Тут сам не знаешь, как жив останешься.
Девка выбежала. Он опять принялся кряхтеть, поглядывая на холмы.
– Ну, что ты сделаешь? Рады мы, что ли, этих разбойников кормить? Скажем, наряд –
лошадей под тачанки. И ведь они скачут, дьяволы, по восемьдесят верст… Лошадь не
машина, с ней надо любовно… У нас теперь весь скот калеченый… Эх, война!..
Задребезжал пузырь в лампе, висевшей над столом, тихо зазвенели оконные стекла.
Горячий воздух будто вздохнул. По земле прокатился отдаленный гром. Хозяин живо
высунулся в окно до половины туловища и долго глядел на холмы, где около мельниц
маячил одинокий верховой. Затем, отчетливо прикладывая персты, перекрестился в угол
на картинку.
– Германская артиллерия, по нашим кроют, – сказал он, и опять зачесалось у него под
линялой рубашкой. – Эх, времечко! – Он поднял веник, бросил его в угол и пошел на
двор, поджимая пальцы на босых ногах. Снова прокатился далекий грохот над селом.