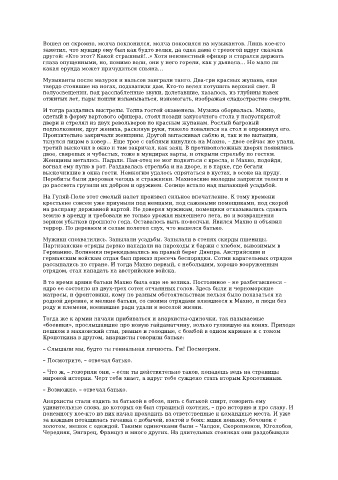Page 96 - Хождение по мукам. Восемнадцатый год
P. 96
Вошел он скромно, молча поклонился, молча покосился на музыкантов. Лишь кое-кто
заметил, что мундир ему был как будто велик, да одна дама с тревогой вдруг сказала
другой: «Кто этот? Какой страшный!..» Хотя неизвестный офицер и старался держать
глаза опущенными, но, помимо воли, они у него горели, как у дьявола… Но мало ли
какая ерунда может причудиться спьяна…
Музыканты после мазурок и вальсов заиграли танго. Два-три красных жупана, еще
твердо стоявшие на ногах, подхватили дам. Кто-то велел потушить верхний свет. В
полуосвещении, под расслабленные звуки, долетавшие, казалось, из глубины навек
отжитых лет, пары пошли изламываться, изнемогать, изображая сладострастие смерти.
И тогда раздались выстрелы. Толпа гостей окаменела. Музыка оборвалась. Махно,
одетый в форму вартового офицера, стоял позади закусочного стола у полуоткрытой
двери и стрелял из двух револьверов по красным жупанам. Рослый багровый
подполковник, друг жениха, раскинув руки, тяжело повалился на стол и опрокинул его.
Пронзительно закричали женщины. Другой вытаскивал саблю и, так и не вытащив,
ткнулся лицом в ковер… Еще трое с саблями кинулись на Махно, – двое сейчас же упали,
третий выскочил в окно и там закричал, как заяц. В противоположных дверях появились
двое, свирепых и чубастых, тоже в мундирах варты, и открыли стрельбу по гостям.
Женщины метались. Падали. Пан-отец не мог подняться с кресла, и Махно, подойдя,
вогнал ему пулю в рот. Раздавалась стрельба и на дворе, и в парке, где бегали
выскочившие в окна гости. Немногим удалось спрятаться в кустах, в осоке на пруду.
Перебиты были дворовая челядь и стражники. Махновские молодцы запрягли телеги и
до рассвета грузили их добром и оружием. Солнце встало над пылающей усадьбой.
На Гуляй-Поле этот смелый налет произвел сильное впечатление. К тому времени
крестьяне совсем уже приуныли под немцами, под сажеными помещиками, под скорой
на расправу державной вартой. Не доверяя мужикам, помещики отказывались сдавать
землю в аренду и требовали не только урожая нынешнего лета, но и возвращения
зерном убытков прошлого года. Оставалось выть по-волчьи. Явился Махно и объявил
террор. По деревням и селам полетел слух, что нашелся батько.
Мужики спохватились. Запылали усадьбы. Запылали в степях скирды пшеницы.
Партизанские отряды дерзко нападали на пароходы и баржи с хлебом, вывозимым в
Германию. Волнения перекидывались на правый берег Днепра. Австрийским и
германским войскам отдан был приказ пресечь беспорядки. Сотни карательных отрядов
рассыпались по стране. И тогда Махно первый, с небольшим, хорошо вооруженным
отрядом, стал нападать на австрийские войска.
В то время армия батьки Махно была еще не велика. Постоянное – не разбегавшееся –
ядро ее состояло из двух-трех сотен отчаянных голов. Здесь были и черноморские
матросы, и фронтовики, кому по разным обстоятельствам нельзя было показаться на
родной деревне, и мелкие батьки, со своими отрядами влившиеся к Махно, и люди без
роду и племени, воевавшие ради удали и веселой жизни.
Тогда же к армии начали прибиваться и анархисты-одиночки, так называемые
«боевики», прослышавшие про новую гайдаматчину, вольно гулявшую на конях. Приходя
пешком в махновский стан, рваные и голодные, с бомбой в одном кармане и с томом
Кропоткина в другом, анархисты говорили батьке:
– Слышали мы, будто ты гениальная личность. Гм! Посмотрим.
– Посмотрите, – отвечал батько.
– Что ж, – говорили они, – если ты действительно таков, попадешь ведь на страницы
мировой истории. Черт тебя знает, а вдруг тебе суждено стать вторым Кропоткиным.
– Возможно, – отвечал батько.
Анархисты стали ездить за батькой в обозе, пить с батькой спирт, говорить ему
удивительные слова, до которых он был страшный охотник, – про историю и про славу. И
понемногу кое-кто из них начал проходить на ответственные и командные места. И уже
за каждым потащилась тачанка с добычей, взятой в боях: ящик коньяку, бочонок с
золотом, мешок с одеждой. Такими одиночками были – Чалдон, Скоропионов, Юголобов,
Чередняк, Энгарец, Француз и много других. На длительных стоянках они раздобывали