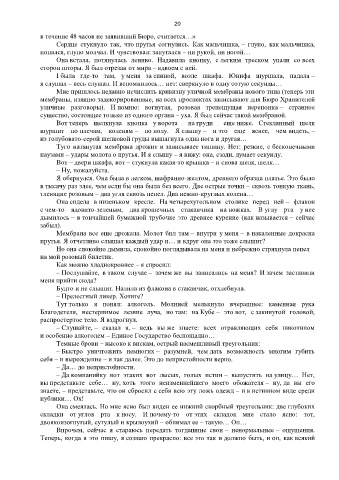Page 20 - Мы
P. 20
20
в течение 48 часов не заявивший Бюро, считается…»
Сердце стукнуло так, что прутья согнулись. Как мальчишка, – глупо, как мальчишка,
попался, глупо молчал. И чувствовал: запутался – ни рукой, ни ногой…
Она встала, потянулась лениво. Надавила кнопку, с легким треском упали со всех
сторон шторы. Я был отрезан от мира – вдвоем с ней.
I была где-то там, у меня за спиной, возле шкафа. Юнифа шуршала, падала –
я слушал – весь слушал. И вспомнилось… нет: сверкнуло в одну сотую секунды…
Мне пришлось недавно исчислить кривизну уличной мембраны нового типа (теперь эти
мембраны, изящно задекорированные, на всех проспектах записывают для Бюро Хранителей
уличные разговоры). И помню: вогнутая, розовая трепещущая перепонка – странное
существо, состоящее только из одного органа – уха. Я был сейчас такой мембраной.
Вот теперь щелкнула кнопка у ворота – на груди – еще ниже. Стеклянный шелк
шуршит по плечам, коленям – по полу. Я слышу – и это еще яснее, чем видеть, –
из голубовато-серой шелковой груды вышагнула одна нога и другая…
Туго натянутая мембрана дрожит и записывает тишину. Нет: резкие, с бесконечными
паузами – удары молота о прутья. И я слышу – я вижу: она, сзади, думает секунду.
Вот – двери шкафа, вот – стукнула какая-то крышка – и снова шелк, шелк…
– Ну, пожалуйста.
Я обернулся. Она была в легком, шафранно-желтом, древнего образца платье. Это было
в тысячу раз злее, чем если бы она была без всего. Две острые точки – сквозь тонкую ткань,
тлеющие розовым – два угля сквозь пепел. Два нежно-круглых колена…
Она сидела в низеньком кресле. На четырехугольном столике перед ней – флакон
с чем-то ядовито-зеленым, два крошечных стаканчика на ножках. В углу рта у нее
дымилось – в тончайшей бумажной трубочке это древнее курение (как называется – сейчас
забыл).
Мембрана все еще дрожала. Молот бил там – внутри у меня – в накаленные докрасна
прутья. Я отчетливо слышал каждый удар и… и вдруг она это тоже слышит?
Но она спокойно дымила, спокойно поглядывала на меня и небрежно стряхнула пепел –
на мой розовый билетик.
Как можно хладнокровнее – я спросил:
– Послушайте, в таком случае – зачем же вы записались на меня? И зачем заставили
меня прийти сюда?
Будто и не слышит. Налила из флакона в стаканчик, отхлебнула.
– Прелестный ликер. Хотите?
Тут только я понял: алкоголь. Молнией мелькнуло вчерашнее: каменная рука
Благодетеля, нестерпимое лезвие луча, но там: на Кубе – это вот, с закинутой головой,
распростертое тело. Я вздрогнул.
– Слушайте, – сказал я, – ведь вы же знаете: всех отравляющих себя никотином
и особенно алкоголем – Единое Государство беспощадно…
Темные брови – высоко к вискам, острый насмешливый треугольник:
– Быстро уничтожить немногих – разумней, чем дать возможность многим губить
себя – и вырождение – и так далее. Это до непристойности верно.
– Да… до непристойности.
– Да компанийку вот этаких вот лысых, голых истин – выпустить на улицу… Нет,
вы представьте себе… ну, хоть этого неизменнейшего моего обожателя – ну, да вы его
знаете, – представьте, что он сбросил с себя всю эту ложь одежд – и в истинном виде среди
публики… Ох!
Она смеялась. Но мне ясно был виден ее нижний скорбный треугольник: две глубоких
складки от углов рта к носу. И почему-то от этих складок мне стало ясно: тот,
двоякоизогнутый, сутулый и крылоухий – обнимал ее – такую… Он…
Впрочем, сейчас я стараюсь передать тогдашние свои – ненормальные – ощущения.
Теперь, когда я это пишу, я сознаю прекрасно: все это так и должно быть, и он, как всякий