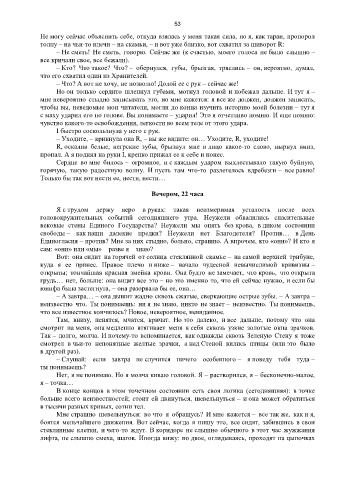Page 53 - Мы
P. 53
53
Не могу сейчас объяснить себе, откуда взялась у меня такая сила, но я, как таран, пропорол
толпу – на чьи-то плечи – на скамьи, – и вот уже близко, вот схватил за шиворот R:
– Не сметь! Не сметь, говорю. Сейчас же (к счастью, моего голоса не было слышно –
все кричали свое, все бежали).
– Кто? Что такое? Что? – обернулся, губы, брызгая, тряслись – он, вероятно, думал,
что его схватил один из Хранителей.
– Что? А вот не хочу, не позволю! Долой ее с рук – сейчас же!
Но он только сердито шлепнул губами, мотнул головой и побежал дальше. И тут я –
мне невероятно стыдно записывать это, но мне кажется: я все же должен, должен записать,
чтобы вы, неведомые мои читатели, могли до конца изучить историю моей болезни – тут я
с маху ударил его по голове. Вы понимаете – ударил! Это я отчетливо помню. И еще помню:
чувство какого-то освобождения, легкости во всем теле от этого удара.
I быстро соскользнула у него с рук.
– Уходите, – крикнула она R, – вы же видите: он… Уходите, R, уходите!
R, оскалив белые, негрские зубы, брызнул мне в лицо какое-то слово, нырнул вниз,
пропал. А я поднял на руки I, крепко прижал ее к себе и понес.
Сердце во мне билось – огромное, и с каждым ударом выхлестывало такую буйную,
горячую, такую радостную волну. И пусть там что-то разлетелось вдребезги – все равно!
Только бы так вот нести ее, нести, нести…
Вечером, 22 часа
Я с трудом держу перо в руках: такая неизмеримая усталость после всех
головокружительных событий сегодняшнего утра. Неужели обвалились спасительные
вековые стены Единого Государства? Неужели мы опять без крова, в диком состоянии
свободы – как наши далекие предки? Неужели нет Благодетеля? Против… в День
Единогласия – против? Мне за них стыдно, больно, страшно. А впрочем, кто «они»? И кто я
сам: «они» или «мы» – разве я – знаю?
Вот: она сидит на горячей от солнца стеклянной скамье – на самой верхней трибуне,
куда я ее принес. Правое плечо и ниже – начало чудесной невычислимой кривизны –
открыты; тончайшая красная змейка крови. Она будто не замечает, что кровь, что открыта
грудь… нет, больше: она видит все это – но это именно то, что ей сейчас нужно, и если бы
юнифа была застегнута, – она разорвала бы ее, она…
– А завтра… – она дышит жадно сквозь сжатые, сверкающие острые зубы. – А завтра –
неизвестно что. Ты понимаешь: ни я не знаю, никто не знает – неизвестно. Ты понимаешь,
что все известное кончилось? Новое, невероятное, невиданное.
Там, внизу, пенятся, мчатся, кричат. Но это далеко, и все дальше, потому что она
смотрит на меня, она медленно втягивает меня в себя сквозь узкие золотые окна зрачков.
Так – долго, молча. И почему-то вспоминается, как однажды сквозь Зеленую Стену я тоже
смотрел в чьи-то непонятные желтые зрачки, а над Стеной вились птицы (или это было
в другой раз).
– Слушай: если завтра не случится ничего особенного – я поведу тебя туда –
ты понимаешь?
Нет, я не понимаю. Но я молча киваю головой. Я – растворился, я – бесконечно-малое,
я – точка…
В конце концов в этом точечном состоянии есть своя логика (сегодняшняя): в точке
больше всего неизвестностей; стоит ей двинуться, шевельнуться – и она может обратиться
в тысячи разных кривых, сотни тел.
Мне страшно шевельнуться: во что я обращусь? И мне кажется – все так же, как и я,
боятся мельчайшего движения. Вот сейчас, когда я пишу это, все сидят, забившись в свои
стеклянные клетки, и чего-то ждут. В коридоре не слышно обычного в этот час жужжания
лифта, не слышно смеха, шагов. Иногда вижу: по двое, оглядываясь, проходят на цыпочках