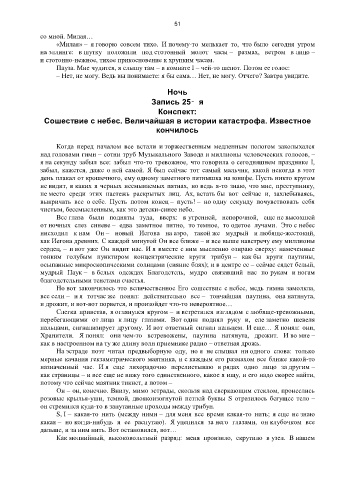Page 51 - Мы
P. 51
51
со мной. Милая…
«Милая» – я говорю совсем тихо. И почему-то мелькает то, что было сегодня утром
на эллинге: в шутку положили под стотонный молот часы – размах, ветром в лицо –
и стотонно-нежное, тихое прикосновение к хрупким часам.
Пауза. Мне чудится, я слышу там – в комнате I – чей-то шепот. Потом ее голос:
– Нет, не могу. Ведь вы понимаете: я бы сама… Нет, не могу. Отчего? Завтра увидите.
Ночь
Запись 25‑ я
Конспект:
Сошествие с небес. Величайшая в истории катастрофа. Известное
кончилось
Когда перед началом все встали и торжественным медленным пологом заколыхался
над головами гимн – сотни труб Музыкального Завода и миллионы человеческих голосов, –
я на секунду забыл все: забыл что-то тревожное, что говорила о сегодняшнем празднике I,
забыл, кажется, даже о ней самой. Я был сейчас тот самый мальчик, какой некогда в этот
день плакал от крошечного, ему одному заметного пятнышка на юнифе. Пусть никто кругом
не видит, в каких я черных несмываемых пятнах, но ведь я-то знаю, что мне, преступнику,
не место среди этих настежь раскрытых лиц. Ах, встать бы вот сейчас и, захлебываясь,
выкричать все о себе. Пусть потом конец – пусть! – но одну секунду почувствовать себя
чистым, бессмысленным, как это детски-синее небо.
Все глаза были подняты туда, вверх: в утренней, непорочной, еще не высохшей
от ночных слез синеве – едва заметное пятно, то темное, то одетое лучами. Это с небес
нисходил к нам Он – новый Иегова на аэро, такой же мудрый и любяще-жестокий,
как Иегова древних. С каждой минутой Он все ближе – и все выше навстречу ему миллионы
сердец, – и вот уже Он видит нас. И я вместе с ним мысленно озираю сверху: намеченные
тонким голубым пунктиром концентрические круги трибун – как бы круги паутины,
осыпанные микроскопическими солнцами (сияние блях); и в центре ее – сейчас сядет белый,
мудрый Паук – в белых одеждах Благодетель, мудро связавший нас по рукам и ногам
благодетельными тенетами счастья.
Но вот закончилось это величественное Его сошествие с небес, медь гимна замолкла,
все сели – и я тотчас же понял: действительно все – тончайшая паутина, она натянута,
и дрожит, и вот-вот порвется, и произойдет что-то невероятное…
Слегка привстав, я оглянулся кругом – и встретился взглядом с любяще-тревожными,
перебегающими от лица к лицу глазами. Вот один поднял руку и, еле заметно шевеля
пальцами, сигнализирует другому. И вот ответный сигнал пальцем. И еще… Я понял: они,
Хранители. Я понял: они чем-то встревожены, паутина натянута, дрожит. И во мне –
как в настроенном на ту же длину волн приемнике радио – ответная дрожь.
На эстраде поэт читал предвыборную оду, но я не слышал ни одного слова: только
мерные качания гекзаметрического маятника, и с каждым его размахом все ближе какой-то
назначенный час. И я еще лихорадочно перелистываю в рядах одно лицо за другим –
как страницы – и все еще не вижу того единственного, какое я ищу, и его надо скорее найти,
потому что сейчас маятник тикнет, а потом –
Он – он, конечно. Внизу, мимо эстрады, скользя над сверкающим стеклом, пронеслись
розовые крылья-уши, темной, двоякоизогнутой петлей буквы S отразилось бегущее тело –
он стремился куда-то в запутанные проходы между трибун.
S, I – какая-то нить (между ними – для меня все время какая-то нить; я еще не знаю
какая – но когда-нибудь я ее распутаю). Я уцепился за него глазами, он клубочком все
дальше, и за ним нить. Вот остановился, вот…
Как молнийный, высоковольтный разряд: меня пронзило, скрутило в узел. В нашем