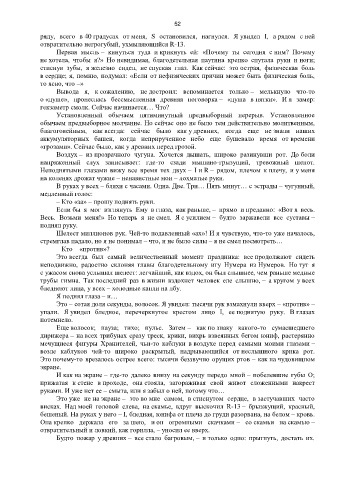Page 52 - Мы
P. 52
52
ряду, всего в 40 градусах от меня, S остановился, нагнулся. Я увидел I, а рядом с ней
отвратительно негрогубый, ухмыляющийся R-13.
Первая мысль – кинуться туда и крикнуть ей: «Почему ты сегодня с ним? Почему
не хотела, чтобы я?» Но невидимая, благодетельная паутина крепко спутала руки и ноги;
стиснув зубы, я железно сидел, не спуская глаз. Как сейчас: это острая, физическая боль
в сердце; я, помню, подумал: «Если от нефизических причин может быть физическая боль,
то ясно, что –»
Вывода я, к сожалению, не достроил: вспоминается только – мелькнуло что-то
о «душе», пронеслась бессмысленная древняя поговорка – «душа в пятки». И я замер:
гекзаметр смолк. Сейчас начинается… Что?
Установленный обычаем пятиминутный предвыборный перерыв. Установленное
обычаем предвыборное молчание. Но сейчас оно не было тем действительно молитвенным,
благоговейным, как всегда: сейчас было как у древних, когда еще не знали наших
аккумуляторных башен, когда неприрученное небо еще бушевало время от времени
«грозами». Сейчас было, как у древних перед грозой.
Воздух – из прозрачного чугуна. Хочется дышать, широко разинувши рот. До боли
напряженный слух записывает: где-то сзади мышино-грызущий, тревожный шепот.
Неподнятыми глазами вижу все время тех двух – I и R – рядом, плечом к плечу, и у меня
на коленях дрожат чужие – ненавистные мои – лохматые руки.
В руках у всех – бляхи с часами. Одна. Две. Три… Пять минут… с эстрады – чугунный,
медленный голос:
– Кто «за» – прошу поднять руки.
Если бы я мог взглянуть Ему в глаза, как раньше, – прямо и преданно: «Вот я весь.
Весь. Возьми меня!» Но теперь я не смел. Я с усилием – будто заржавели все суставы –
поднял руку.
Шелест миллионов рук. Чей-то подавленный «ах»! И я чувствую, что-то уже началось,
стремглав падало, но я не понимал – что, и не было силы – я не смел посмотреть…
– Кто – «против»?
Это всегда был самый величественный момент праздника: все продолжают сидеть
неподвижно, радостно склоняя главы благодетельному игу Нумера из Нумеров. Но тут я
с ужасом снова услышал шелест: легчайший, как вздох, он был слышнее, чем раньше медные
трубы гимна. Так последний раз в жизни вздохнет человек еле слышно, – а кругом у всех
бледнеют лица, у всех – холодные капли на лбу.
Я поднял глаза – и…
Это – сотая доля секунды, волосок. Я увидел: тысячи рук взмахнули вверх – «против» –
упали. Я увидел бледное, перечеркнутое крестом лицо I, ее поднятую руку. В глазах
потемнело.
Еще волосок; пауза; тихо; пульс. Затем – как по знаку какого-то сумасшедшего
дирижера – на всех трибунах сразу треск, крики, вихрь взвеянных бегом юниф, растерянно
мечущиеся фигуры Хранителей, чьи-то каблуки в воздухе перед самыми моими глазами –
возле каблуков чей-то широко раскрытый, надрывающийся от неслышного крика рот.
Это почему-то врезалось острее всего: тысячи беззвучно орущих ртов – как на чудовищном
экране.
И как на экране – где-то далеко внизу на секунду передо мной – побелевшие губы О;
прижатая к стене в проходе, она стояла, загораживая свой живот сложенными накрест
руками. И уже нет ее – смыта, или я забыл о ней, потому что…
Это уже не на экране – это во мне самом, в стиснутом сердце, в застучавших часто
висках. Над моей головой слева, на скамье, вдруг выскочил R-13 – брызжущий, красный,
бешеный. На руках у него – I, бледная, юнифа от плеча до груди разорвана, на белом – кровь.
Она крепко держала его за шею, и он огромными скачками – со скамьи на скамью –
отвратительный и ловкий, как горилла, – уносил ее вверх.
Будто пожар у древних – все стало багровым, – и только одно: прыгнуть, достать их.