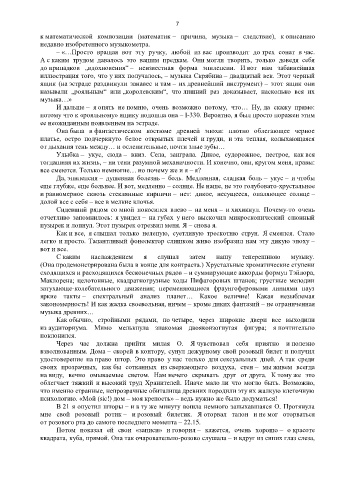Page 7 - Мы
P. 7
7
к математической композиции (математик – причина, музыка – следствие), к описанию
недавно изобретенного музыкометра.
– «…Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час.
А с каким трудом давалось это вашим предкам. Они могли творить, только доведя себя
до припадков „вдохновения“ – неизвестная форма эпилепсии. И вот вам забавнейшая
иллюстрация того, что у них получалось, – музыка Скрябина – двадцатый век. Этот черный
ящик (на эстраде раздвинули занавес и там – их древнейший инструмент) – этот ящик они
называли „рояльным“ или „королевским“, что лишний раз доказывает, насколько вся их
музыка…»
И дальше – я опять не помню, очень возможно потому, что… Ну, да скажу прямо:
потому что к «рояльному» ящику подошла она – I-330. Вероятно, я был просто поражен этим
ее неожиданным появлением на эстраде.
Она была в фантастическом костюме древней эпохи: плотно облегающее черное
платье, остро подчеркнуто белое открытых плечей и груди, и эта теплая, колыхающаяся
от дыхания тень между… и ослепительные, почти злые зубы…
Улыбка – укус, сюда – вниз. Села, заиграла. Дикое, судорожное, пестрое, как вся
тогдашняя их жизнь, – ни тени разумной механичности. И конечно, они, кругом меня, правы:
все смеются. Только немногие… но почему же и я – я?
Да, эпилепсия – душевная болезнь – боль. Медленная, сладкая боль – укус – и чтобы
еще глубже, еще больнее. И вот, медленно – солнце. Не наше, не это голубовато-хрустальное
и равномерное сквозь стеклянные кирпичи – нет: дикое, несущееся, опаляющее солнце –
долой все с себя – все в мелкие клочья.
Сидевший рядом со мной покосился влево – на меня – и хихикнул. Почему-то очень
отчетливо запомнилось: я увидел – на губах у него выскочил микроскопический слюнный
пузырек и лопнул. Этот пузырек отрезвил меня. Я – снова я.
Как и все, я слышал только нелепую, суетливую трескотню струн. Я смеялся. Стало
легко и просто. Талантливый фонолектор слишком живо изобразил нам эту дикую эпоху –
вот и все.
С каким наслаждением я слушал затем нашу теперешнюю музыку.
(Она продемонстрирована была в конце для контраста.) Хрустальные хроматические ступени
сходящихся и расходящихся бесконечных рядов – и суммирующие аккорды формул Тэйлора,
Маклорена; целотонные, квадратногрузные ходы Пифагоровых штанов; грустные мелодии
затухающе-колебательного движения; переменяющиеся фраунгоферовыми линиями пауз
яркие такты – спектральный анализ планет… Какое величие! Какая незыблемая
закономерность! И как жалка своевольная, ничем – кроме диких фантазий – не ограниченная
музыка древних…
Как обычно, стройными рядами, по четыре, через широкие двери все выходили
из аудиториума. Мимо мелькнула знакомая двоякоизогнутая фигура; я почтительно
поклонился.
Через час должна прийти милая О. Я чувствовал себя приятно и полезно
взволнованным. Дома – скорей в контору, сунул дежурному свой розовый билет и получил
удостоверение на право штор. Это право у нас только для сексуальных дней. А так среди
своих прозрачных, как бы сотканных из сверкающего воздуха, стен – мы живем всегда
на виду, вечно омываемые светом. Нам нечего скрывать друг от друга. К тому же это
облегчает тяжкий и высокий труд Хранителей. Иначе мало ли что могло быть. Возможно,
что именно странные, непрозрачные обиталища древних породили эту их жалкую клеточную
психологию. «Мой (sic!) дом – моя крепость» – ведь нужно же было додуматься!
В 21 я опустил шторы – и в ту же минуту вошла немного запыхавшаяся О. Протянула
мне свой розовый ротик – и розовый билетик. Я оторвал талон и не мог оторваться
от розового рта до самого последнего момента – 22.15.
Потом показал ей свои «записи» и говорил – кажется, очень хорошо – о красоте
квадрата, куба, прямой. Она так очаровательно-розово слушала – и вдруг из синих глаз слеза,