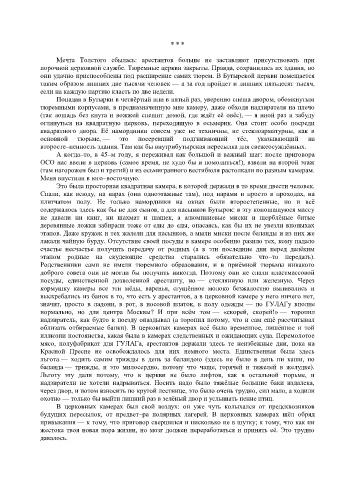Page 295 - Архипелаг ГУЛаг
P. 295
* * *
Мечта Толстого сбылась: арестантов больше не заставляют присутствовать при
порочной церковной службе. Тюремные церкви закрыты. Правда, сохранились их здания, но
они удачно приспособлены под расширение самих тюрем. В Бутырской церкви помещается
таким образом лишних две тысячи человек — а за год пройдет и лишних пятьдесят тысяч,
если на каждую партию класть по две недели.
Попадая в Бутырки в четвёртый или в пятый раз, уверенно спеша двором, обомкнутым
тюремными корпусами, в предназначенную мне камеру, даже обходя надзирателя на плечо
(так лошадь без кнута и вожжей спешит домой, где ждёт её овёс), — я иной раз и забуду
оглянуться на квадратную церковь, переходящую в осьмерик. Она стоит особо посреди
квадратного двора. Её намордники совсем уже не техничны, не стеклоарматурны, как в
основной тюрьме, — это посеревший подгнивающий тёс, указывающий на
второсте–пенность здания. Там как бы внутрибутырская пересылка для свежеосуждённых.
А когда–то, в 45–м году, я переживал как большой и важный шаг: после приговора
ОСО нас ввели в церковь (самое время, не худо бы и помолиться!), взвели на второй этаж
(там нагорожен был и третий) и из осьмигранного вестибюля растолкали по разным камерам.
Меня впустили в юго–восточную.
Это была просторная квадратная камера, в которой держали в то время двести человек.
Спали, как всюду, на нарах (они одноэтажные там), под нарами и просто в проходах, на
плитчатом полу. Не только намордники на окнах были второстепенные, но и всё
содержалось здесь как бы не для сынов, а для пасынков Бутырок: в эту копошащуюся массу
не давали ни книг, ни шахмат и шашек, а алюминиевые миски и щерблёные битые
деревянные ложки забирали тоже от еды до еды, опасаясь, как бы их не увезли впопыхах
этапов. Даже кружек и тех жалели для пасынков, а мыли миски после баланды и из них же
лакали чайную бурду. Отсутствие своей посуды в камере особенно разило тех, кому падало
счастье–несчастье получить передачу от родных (а в эти последние дни перед далёким
этапом родные на скудеющие средства старались обязательно что–то передать).
Родственники сами не имели тюремного образования, и в приёмной тюрьмы никакого
доброго совета они не могли бы получить никогда. Поэтому они не слали пластмассовой
посуды, единственной дозволенной арестанту, но — стеклянную или железную. Через
кормушку камеры все эти мёды, варенья, сгущённое молоко безжалостно выливались и
выскребались из банок в то, что есть у арестантов, а в церковной камере у него ничего нет,
значит, просто в ладони, в рот, в носовой платок, в полу одежды — по ГУЛАГу вполне
нормально, но для центра Москвы? И при всём том — «скорей, скорей!» — торопил
надзиратель, как будто к поезду опаздывал (а торопил потому, что и сам ещё рассчитывал
облизать отбираемые банки). В церковных камерах всё было временное, лишённое и той
иллюзии постоянства, какая была в камерах следственных и ожидающих суда. Перемолотое
мясо, полуфабрикат для ГУЛАГа, арестантов держали здесь те неизбежные дни, пока на
Красной Пресне не освобождалось для них немного места. Единственная была здесь
льгота — ходить самим трижды в день за баландою (здесь не было в день ни каши, но
баланда — трижды, и это милосердно, потому что чаще, горячей и тяжелей в желудке).
Льготу эту дали потому, что в церкви не было лифтов, как в остальной тюрьме, и
надзиратели не хотели надрываться. Носить надо было тяжёлые большие баки издалека,
через двор, и потом взносить по крутой лестнице, это было очень трудно, сил мало, а ходили
охотно — только бы выйти лишний раз в зелёный двор и услышать пение птиц.
В церковных камерах был свой воздух: он уже чуть колыхался от предсквозняков
будущих пересылок, от предвет–ра полярных лагерей. В церковных камерах шёл обряд
привыкания — к тому, что приговор свершился и нисколько не в шутку; к тому, что как ни
жестока твоя новая пора жизни, но мозг должен переработаться и принять её. Это трудно
давалось.