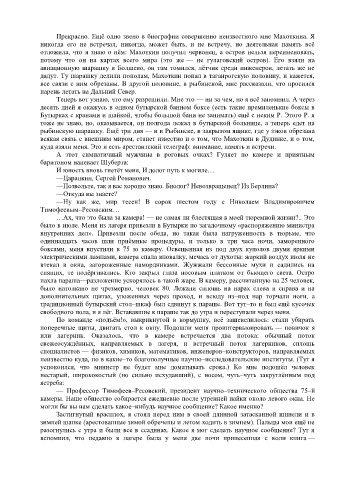Page 291 - Архипелаг ГУЛаг
P. 291
Прекрасно. Ещё одно звено в биографии совершенно неизвестного мне Махоткина. Я
никогда его не встречал, никогда, может быть, и не встречу, но деятельная память всё
отложила, что я знаю о нём: Махоткин получил червонец, а остров нельзя переименовать,
потому что он на картах всего мира (это же — не гулаговский остров). Его взяли на
авиационную шарашку в Болшево, он там томился, лётчик среди инженеров, летать же не
дадут. Ту шарашку делили пополам, Махоткин попал в таганрогскую половину, и кажется,
все связи с ним обрезаны. В другой половине, в рыбинской, мне рассказали, что просился
парень летать на Дальний Север.
Теперь вот узнаю, что ему разрешили. Мне это — ни за чем, но я всё запомнил. А через
десять дней я окажусь в одном бутырской банном боксе (есть такие премиленькие боксы в
Бутырках с кранами и шайкой, чтобы большой бани не занимать) ещё с неким Р. Этого Р. я
тоже не знаю, но, оказывается, он полгода лежал в бутырской больнице, а теперь едет на
рыбинскую шарашку. Ещё три дня — и в Рыбинске, в закрытом ящике, где у зэков обрезана
всякая связь с внешним миром, станет известно и о том, что Махоткин в Дудинке, и о том,
куда взяли меня. Это и есть арестантский телеграф: внимание, память и встречи.
А этот симпатичный мужчина в роговых очках? Гуляет по камере и приятным
баритоном напевает Шуберта:
И юность вновь гнетёт меня, И долог путь к могиле…
—Царапкин, Сергей Романович.
—Позвольте, так я вас хорошо знаю. Биолог? Невозвращенец? Из Берлина?
—Откуда вы знаете?
—Ну как же, мир тесен! В сорок шестом году с Николаем Владимировичем
Тимофеевым–Ресовским…
…Ах, что это была за камера! — не самая ли блестящая в моей тюремной жизни?.. Это
было в июле. Меня из лагеря привезли в Бутырки по загадочному «распоряжению министра
внутренних дел». Привезли после обеда, но такая была нагруженность в тюрьме, что
одиннадцать часов шли приёмные процедуры, и только в три часа ночи, заморенного
боксами, меня впустили в 75–ю камеру. Освещенная из–под двух куполов двумя яркими
электрическими лампами, камера спала вповалку, мечась от духоты: жаркий воздух июля не
втекал в окна, загороженные намордниками. Жужжали бессонные мухи и садились на
спящих, те подёргивались. Кто закрыл глаза носовым платком от бьющего света. Остро
пахла параша—разложение ускорялось в такой жаре. В камеру, рассчитанную на 25 человек,
было натолкано не чрезмерно, человек 80. Лежали сплошь на нарах слева и справа и на
дополнительных щитах, уложенных через проход, и всюду из–под нар торчали ноги, а
традиционный бутырский стол–шкаф был сдвинут к параше. Вот тут–то и был ещё кусочек
свободного пола, и я лёг. Встававшие к параше так до утра и переступали через меня.
По команде «подъём!», выкрикнутой в кормушку, всё зашевелилось: стали убирать
поперечные щиты, двигать стол к окну. Подошли меня проинтервьюировать — новичок я
или лагерник. Оказалось, что в камере встречается два потока: обычный поток
свежеосуждённых, направляемых в лагеря, и встречный поток лагерников, сплошь
специалистов — физиков, химиков, математиков, инженеров–конструкторов, направляемых
неизвестно куда, но в какие–то благополучные научно–исследовательские институты. (Тут я
успокоился, что министр не будет мне доматывать срока.) Ко мне подошёл человек
нестарый, ширококостый (но сильно исхудавший), с носом, чуть–чуть закруглённым под
ястреба:
— Профессор Тимофеев–Ресовский, президент научно–технического общества 75–й
камеры. Наше общество собирается ежедневно после утренней пайки около левого окна. Не
могли бы вы нам сделать какое–нибудь научное сообщение? Какое именно?
Застигнутый врасплох, я стоял перед ним в своей длинной затасканной шинели и в
зимней шапке (арестованные зимой обречены и летом ходить в зимнем). Пальцы мои ещё не
разогнулись с утра и были все в ссадинах. Какое я мог сделать научное сообщение? Тут я
вспомнил, что недавно в лагере была у меня две ночи принесенная с воли книга —