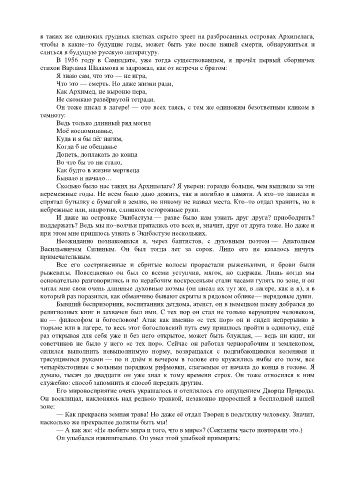Page 658 - Архипелаг ГУЛаг
P. 658
в таких же одиноких грудных клетках скрыто зреет на разбросанных островах Архипелага,
чтобы в какие–то будущие годы, может быть уже после нашей смерти, обнаружиться и
слиться в будущую русскую литературу.
В 1956 году в Самиздате, уже тогда существовавшем, я прочёл первый сборничек
стихов Варлама Шаламова и задрожал, как от встречи с братом:
Я знаю сам, что это — не игра,
Что это — смерть. Но даже жизни ради,
Как Архимед, не выроню пера,
Не скомкаю развёрнутой тетради.
Он тоже писал в лагере! — ото всех таясь, с тем же одиноким безответным кликом в
темноту:
Ведь только длинный ряд могил —
Моё воспоминанье,
Куда и я бы лёг нагим,
Когда б не обещанье
Допеть, доплакать до конца
Во что бы то ни стало,
Как будто в жизни мертвеца
Бывало и начало…
Сколько было нас таких на Архипелаге? Я уверен: гораздо больше, чем выплыло за эти
перемежные годы. Не всем было дано дожить, так и погибло в памяти. А кто–то записал и
спрятал бутылку с бумагой в землю, но никому не назвал места. Кто–то отдал хранить, но в
небрежные или, напротив, слишком осторожные руки.
И даже на островке Экибастуза — разве было нам узнать друг друга? приободрить?
поддержать? Ведь мы по–волчьи прятались ото всех и, значит, друг от друга тоже. Но даже и
при этом мне пришлось узнать в Экибастузе нескольких.
Неожиданно познакомился я, через баптистов, с духовным поэтом — Анатолием
Васильевичем Силиным. Он был тогда лет за сорок. Лицо его не казалось ничуть
примечательным.
Все его состриженные и сбритые волосы прорастали рыженькими, и брови были
рыжеваты. Повседневно он был со всеми уступчив, мягок, но сдержан. Лишь когда мы
основательно разговорились и по нерабочим воскресеньям стали часами гулять по зоне, и он
читал мне свои очень длинные духовные поэмы (он писал их тут же, в лагере, как и я), я в
который раз поразился, как обманчиво бывают скрыты в рядовом облике— нерядовые души.
Бывший беспризорник, воспитанник детдома, атеист, он в немецком плену добрался до
религиозных книг и захвачен был ими. С тех пор он стал не только верующим человеком,
но — философом и богословом! Атак как именно «с тех пор» он и сидел непрерывно в
тюрьме или в лагере, то весь этот богословский путь ему пришлось пройти в одиночку, ещё
раз открывая для себя уже и без него открытое, может быть блуждая, — ведь ни книг, ни
советчиков не было у него «с тех пор». Сейчас он работал чернорабочим и землекопом,
силился выполнить невыполнимую норму, возвращался с подгибающимися коленями и
трясущимися руками — но и днём и вечером в голове его кружились ямбы его поэм, все
четырёхстопные с вольным порядком рифмовки, слагаемые от начала до конца в голове. Я
думаю, тысяч до двадцати он уже знал к тому времени строк. Он тоже относился к ним
служебно: способ запомнить и способ передать другим.
Его мировосприятие очень украшалось и отеплялось его ощущением Дворца Природы.
Он восклицал, наклоняясь над редкою травкой, незаконно проросшей в бесплодной нашей
зоне:
— Как прекрасна земная трава! Но даже её отдал Творец в подстилку человеку. Значит,
насколько же прекраснее должны быть мы!
— А как же: «Не любите мира и того, что в мире»? (Сектанты часто повторяли это.)
Он улыбался извинительно. Он умел этой улыбкой примирять: