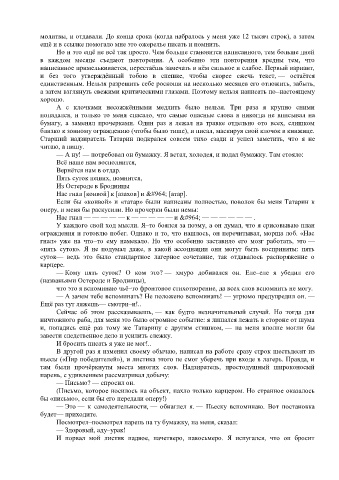Page 656 - Архипелаг ГУЛаг
P. 656
молитвы, и отдавали. До конца срока (когда набралось у меня уже 12 тысяч строк), а затем
ещё и в ссылке помогало мне это ожерелье писать и помнить.
Но и это ещё не всё так просто. Чем больше становится написанного, тем больше дней
в каждом месяце съедают повторения. А особенно эти повторения вредны тем, что
написанное примелькивается, перестаёшь замечать в нём сильное и слабое. Первый вариант,
и без того утверждённый тобою в спешке, чтобы скорее сжечь текст, — остаётся
единственным. Нельзя разрешить себе роскоши на несколько месяцев его отложить, забыть,
а затем взглянуть свежими критическими глазами. Поэтому нельзя написать по–настоящему
хорошо.
А с клочками несожжёнными медлить было нельзя. Три раза я крупно сними
попадался, и только то меня спасало, что самые опасные слова я никогда не вписывал на
бумагу, а заменял прочерками. Один раз я лежал на травке отдельно ото всех, слишком
близко к зонному ограждению (чтобы было тише), и писал, маскируя свой клочок в книжице.
Старший надзиратель Татарин подкрался совсем тихо сзади и успел заметить, что я не
читаю, а пишу.
— А ну! — потребовал он бумажку. Я встал, холодея, и подал бумажку. Там стояло:
Всё наше нам восполнится,
Вернётся нам в отдар.
Пять суток пеших, помнится,
Из Остероде в Бродницы
Нас гнал [конвой] к [азахов] и τ [атар].
Если бы «конвой» и «татар» были написаны полностью, поволок бы меня Татарин к
оперу, и меня бы раскусили. Но прочерки были немы:
Нас гнал — — — — — к — — — — — и τ — — — — — — .
У каждого свой ход мысли. Я–то боялся за поэму, а он думал, что я срисовываю план
ограждения и готовлю побег. Однако и то, что нашлось, он перечитывал, морща лоб. «Нас
гнал» уже на что–то ему намекало. Но что особенно заставило его мозг работать, это —
«пять суток». Я не подумал даже, в какой ассоциации они могут быть восприняты: пять
суток— ведь это было стандартное лагерное сочетание, так отдавалось распоряжение о
карцере.
— Кому пять суток? О ком это? — хмуро добивался он. Еле–еле я убедил его
(названьями Остероде и Бродницы),
что это я вспоминаю чьё–то фронтовое стихотворение, да всех слов вспомнить не могу.
— А зачем тебе вспоминать? Не положено вспоминать! — угрюмо предупредил он. —
Ещё раз тут ляжешь— смотри–и!..
Сейчас об этом рассказываешь, — как будто незначительный случай. Но тогда для
ничтожного раба, для меня это было огромное событие: я лишался лежать в стороне от шума
и, попадись ещё раз тому же Татарину с другим стишком, — на меня вполне могли бы
завести следственное дело и усилить слежку.
И бросить писать я уже не мог!..
В другой раз я изменил своему обычаю, написал на работе сразу строк шестьдесят из
пьесы («Пир победителей»), и листика этого не смог уберечь при входе в лагерь. Правда, и
там были прочёркнуты места многих слов. Надзиратель, простодушный широконосый
парень, с удивлением рассматривал добычу:
— Письмо? — спросил он.
(Письмо, которое носилось на объект, пахло только карцером. Но странное оказалось
бы «письмо», если бы его передали оперу!)
— Это — к самодеятельности, — обнаглел я. — Пьеску вспоминаю. Вот постановка
будет— приходите.
Посмотрел–посмотрел парень на ту бумажку, на меня, сказал:
— Здоровый, аду–урак!
И порвал мой листик надвое, начетверо, навосьмеро. Я испугался, что он бросит