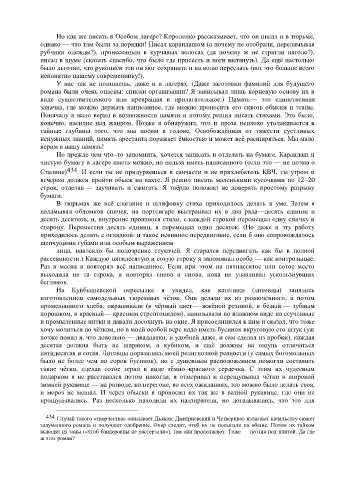Page 655 - Архипелаг ГУЛаг
P. 655
Но как же писать в Особом лагере? Короленко рассказывает, что он писал и в тюрьме,
однако — что там были за порядки! Писал карандашом (а почему не отобрали, переламывая
рубчики одежды?), пронесенным в курчавых волосах (да почему ж не стригли наголо?),
писал в шуме (сказать спасибо, что было где присесть и ноги вытянуть). Да ещё настолько
было льготно, что рукописи эти он мог сохранить и на волю переслать (вот это больше всего
непонятно нашему современнику!).
У нас так не попишешь, даже и в лагерях. (Даже заготовки фамилий для будущего
романа были очень опасны: списки организации? Я записывал лишь корневую основу их в
виде существительного или превращая в прилагательное.) Память— это единственная
заначка, где можно держать написанное, где можно проносить его сквозь обыски и этапы.
Поначалу я мало верил в возможности памяти и потому решил писать стихами. Это было,
конечно, насилие над жанром. Позже я обнаружил, что и проза неплохо утолакивается в
тайные глубины того, что мы носим в голове. Освобождённая от тяжести суетливых
ненужных знаний, память арестанта поражает ёмкостью и может всё расширяться. Мы мало
верим в нашу память!
Но прежде чем что–то запомнить, хочется записать и отделать на бумаге. Карандаш и
чистую бумагу в лагере иметь можно, но нельзя иметь написанного (если это — не поэма о
Сталине) 434 . И если ты не придуряешься в санчасти и не прихлебатель КВЧ, ты утром и
вечером должен пройти обыск на вахте. Я решил писать маленькими кусочками по 12–20
строк, отделав — заучивать и сжигать. Я твёрдо положил не доверять простому разрыву
бумаги.
В тюрьмах же всё слагание и шлифовку стиха приходилось делать в уме. Затем я
наламывал обломков спичек, на портсигаре выстраивал их в два ряда—десять единиц и
десять десятков, и, внутренне произнося стихи, с каждой строкой перемещал одну спичку в
сторону. Переместив десять единиц, я перемещал один десяток. (Но даже и эту работу
приходилось делать с оглядкой: и такое невинное передвигание, если б оно сопровождалось
шепчущими губами или особым выражением
лица, навлекло бы подозрение стукачей. Я старался передвигать как бы в полной
рассеянности.) Каждую пятидесятую и сотую строку я запоминал особо — как контрольные.
Раз в месяц я повторял всё написанное. Если при этом на пятидесятое или сотое место
выходила не та строка, я повторял снова и снова, пока не улавливал ускользнувших
беглянок.
На Куйбышевской пересылке я увидел, как католики (литовцы) занялись
изготовлением самодельных тюремных чёток. Они делали их из размоченного, а потом
промешанного хлеба, окрашивали (в чёрный цвет— жжёной резиной, в белый — зубным
порошком, в красный— красным стрептоцидом), нанизывали во влажном виде на ссученные
и промыленные нитки и давали досохнуть на окне. Я присоединился к ним и сказал, что тоже
хочу молиться по чёткам, но в моей особой вере надо иметь бусинок вкруговую сто штук (уж
позже понял я, что довольно — двадцатки, и удобней даже, и сам сделал из пробки), каждая
десятая должна быть не шариком, а кубиком, и ещё должны на ощупь отличаться
пятидесятая и сотая. Литовцы поразились моей религиозной ревности (у самых богомольных
было не более чем по сорок бусинок), но с душевным расположением помогли составить
такие чётки, сделав сотое зерно в виде тёмно–красного сердечка. С этим их чудесным
подарком я не расставался потом никогда, я отмеривал и перещупывал чётки в широкой
зимней рукавице — на разводе, на перегоне, во всех ожиданиях, это можно было делать стоя,
и мороз не мешал. И через обыски я проносил их так же в ватной рукавице, где они не
прощупывались. Раз несколько находили их надзиратели, но догадывались, что это для
434 Случай такого «творчества» описывает Дьяков: Дмитриевский и Четвериков излагают начальству сюжет
задуманного романа и получают одобрение. Опер следит, чтоб их не посылали на общие. Потом их тайком
выводят из зоны («чтоб бандеровцы не растерзали»), там они продолжают. Тоже — поэзия под плитой. Да где
ж этот роман?