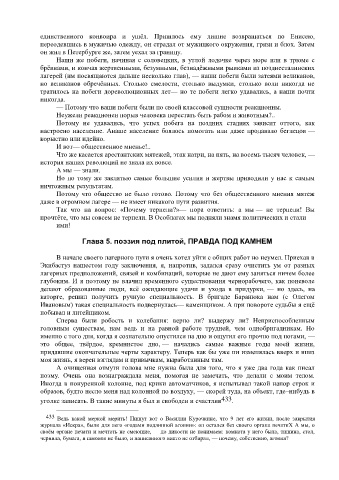Page 654 - Архипелаг ГУЛаг
P. 654
единственного конвоира и ушёл. Пришлось ему лишне возвращаться по Енисею,
переодевшись в мужичью одежду, он страдал от мужицкого окружения, грязи и блох. Затем
он жил в Петербурге же, затем уехал за границу.
Наши же побеги, начиная с соловецких, в утлой лодочке через море или в трюме с
брёвнами, и кончая жертвенными, безумными, безнадёжными рывками из позднесталинских
лагерей (им посвящаются дальше несколько глав), — наши побеги были затеями великанов,
но великанов обречённых. Столько смелости, столько выдумки, столько воли никогда не
тратилось на побеги дореволюционных лет— но те побеги легко удавались, а наши почти
никогда.
— Потому что ваши побеги были по своей классовой сущности реакционны.
Неужели реакционен порыв человека перестать быть рабом и животным?..
Потому не удавались, что успех побега на поздних стадиях зависит оттого, как
настроено население. Анаше население боялось помогать или даже продавало беглецов —
корыстно или идейно.
И вот— общественное мненье!..
Что же касается арестантских мятежей, этак натри, на пять, на восемь тысяч человек, —
история наших революций не знала их вовсе.
А мы — знали.
Но по тому же заклятью самые большие усилия и жертвы приводили у нас к самым
ничтожным результатам.
Потому что общество не было готово. Потому что без общественного мнения мятеж
даже в огромном лагере — не имеет никакого пути развития.
Так что на вопрос: «Почему терпели?»— пора ответить: а мы — не терпели! Вы
прочтёте, что мы совсем не терпели. В Особлагах мы подняли знамя политических и стали
ими!
Глава 5. поэзия под плитой, ПРАВДА ПОД КАМНЕМ
В начале своего лагерного пути я очень хотел уйти с общих работ но неумел. Приехав в
Экибастуз нашестом году заключения, я, напротив, задался сразу очистить ум от разных
лагерных предположений, связей и комбинаций, которые не дают ему заняться ничем более
глубоким. И я поэтому не влачил временного существования чернорабочего, как поневоле
делают образованные люди, всё ожидающие удачи и ухода в придурки, — но здесь, на
каторге, решил получить ручную специальность. В бригаде Баранюка нам (с Олегом
Ивановым) такая специальность подвернулась— каменщиком. А при повороте судьбы я ещё
побывал и литейщиком.
Сперва были робость и колебания: верно ли? выдержу ли? Неприспособленным
головным существам, нам ведь и на равной работе трудней, чем однобригадникам. Но
именно с того дня, когда я сознательно опустился на дно и ощутил его прочно под ногами, —
это общее, твёрдое, кремнистое дно, — начались самые важные годы моей жизни,
придавшие окончательные черты характеру. Теперь как бы уже ни изменялась вверх и вниз
моя жизнь, я верен взглядам и привычкам, выработанным там.
А очищенная отмути голова мне нужна была для того, что я уже два года как писал
поэму. Очень она вознаграждала меня, помогая не замечать, что делали с моим телом.
Иногда в понуренной колонне, под крики автоматчиков, я испытывал такой напор строк и
образов, будто несло меня над колонной по воздуху, — скорей туда, на объект, где–нибудь в
уголке записать. В такие минуты я был и свободен и счастлив 433 .
433 Ведь какой меркой мерить! Пишут вот о Василии Курочкине, что 9 лет его жизни, после закрытия
журнала «Искра», были для него «годами подлинной агонии»: он остался без своего органа печатиХ А мы, о
своём органе печати и мечтать не смеющие, — до дикости не понимаем: комната у него была, тишина, стол,
чернила, бумага, и шмонов не было, и написанного никто не отбирал, — почему, собственно, агония?