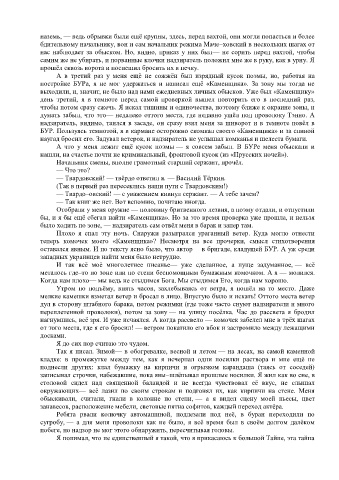Page 657 - Архипелаг ГУЛаг
P. 657
наземь, — ведь обрывки были ещё крупны, здесь, перед вахтой, они могли попасться и более
бдительному начальнику, вон и сам начальник режима Маче–ховский в нескольких шагах от
нас наблюдает за обыском. Но, видно, приказ у них был— не сорить перед вахтой, чтобы
самим же не убирать, и порванные клочки надзиратель положил мне же в руку, как в урну. Я
прошёл сквозь ворота и поспешил бросить их в печку.
А в третий раз у меня ещё не сожжён был изрядный кусок поэмы, но, работая на
постройке БУРа, я не мог удержаться и написал ещё «Каменщика». За зону мы тогда не
выходили, и, значит, не было над нами ежедневных личных обысков. Уже был «Каменщику»
день третий, я в темноте перед самой проверкой вышел повторить его в последний раз,
чтобы потом сразу сжечь. Я искал тишины и одиночества, поэтому ближе к окраине зоны, и
думать забыл, что это— недалеко оттого места, где недавно ушёл под проволоку Тэнно. А
надзиратель, видимо, таился в засаде, он сразу взял меня за шиворот и в темноте повёл в
БУР. Пользуясь темнотой, я в кармане осторожно скомкал своего «Каменщика» и за спиной
наугад бросил его. Задувал ветерок, и надзиратель не услышал комканья и шелеста бумаги.
А что у меня лежит ещё кусок поэмы — я совсем забыл. В БУРе меня обыскали и
нашли, на счастье почти не криминальный, фронтовой кусок (из «Прусских ночей»).
Начальник смены, вполне грамотный старший сержант, прочёл.
— Что это?
— Твардовский! — твёрдо ответил я. — Василий Тёркин.
(Так в первый раз пересеклись наши пути с Твардовским!)
— Твардо–овский! — с уважением кивнул сержант. — А тебе зачем?
— Так книг же нет. Вот вспомню, почитаю иногда.
Отобрали у меня оружие — половину бритвенного лезвия, а поэму отдали, и отпустили
бы, и я бы ещё сбегал найти «Каменщика». Но за это время проверка уже прошла, и нельзя
было ходить по зоне, — надзиратель сам отвёл меня в барак и запер там.
Плохо я спал эту ночь. Снаружи разыгрался ураганный ветер. Куда могло отнести
теперь комочек моего «Каменщика»? Несмотря на все прочерки, смысл стихотворения
оставался явным. И по тексту ясно было, что автор— в бригаде, кладущей БУР. А уж среди
западных украинцев найти меня было нетрудно.
И так всё моё многолетнее писанье— уже сделанное, а пуще задуманное, — всё
металось где–то по зоне или по степи беспомощным бумажным комочком. А я — молился.
Когда нам плохо— мы ведь не стыдимся Бога. Мы стыдимся Его, когда нам хорошо.
Утром по подъёму, впять часов, захлебываясь от ветра, я пошёл на то место. Даже
мелкие камешки взметал ветер и бросал в лицо. Впустую было и искать! Оттого места ветер
дул в сторону штабного барака, потом режимки (где тоже часто снуют надзиратели и много
переплетенной проволоки), потом за зону — на улицу посёлка. Час до рассвета я бродил
нагнувшись, всё зря. И уже исчаялся. А когда рассвело — комочек забелел мне в трёх шагах
от того места, где я его бросил! — ветром покатило его вбок и застромило между лежащими
досками.
Я до сих пор считаю это чудом.
Так я писал. Зимой— в обогревалке, весной и летом — на лесах, на самой каменной
кладке: в промежутке между тем, как я исчерпал одни носилки раствора и мне ещё не
поднесли других: клал бумажку на кирпичи и огрызком карандаша (таясь от соседей)
записывал строчки, набежавшие, пока явы–шлёпывал прошлые носилки. Я жил как во сне, в
столовой сидел над священной баландой и не всегда чувствовал её вкус, не слышал
окружающих— всё лазил по своим строкам и подгонял их, как кирпичи на стене. Меня
обыскивали, считали, гнали в колонне по степи, — а я видел сцену моей пьесы, цвет
занавесов, расположение мебели, световые пятна софитов, каждый переход актёра.
Ребята рвали колючку автомашиной, подлезали под неё, в буран переходили по
сугробу, — а для меня проволоки как не было, я всё время был в своём долгом далёком
побеге, но надзор не мог этого обнаружить, пересчитывая головы.
Я понимал, что не единственный я такой, что я прикасаюсь к большой Тайне, эта тайна