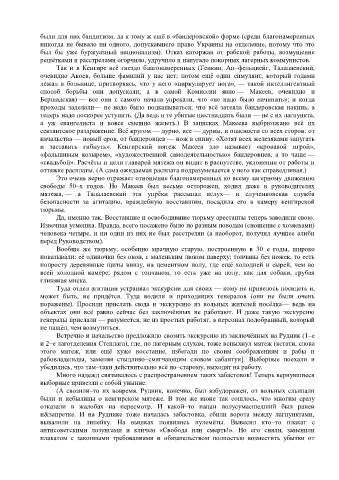Page 761 - Архипелаг ГУЛаг
P. 761
были для них бандитизм, да к тому ж ещё в «бандеровской» форме (среди благонамеренных
никогда не бывало ни одного, допускавшего право Украины на отделение, потому что это
был бы уже буржуазный национализм). Отказ каторжан от рабской работы, возмущение
решётками и расстрелами огорчило, удручило и напугало покорных лагерных коммунистов.
Так и в Кенгире всё гнездо благонамеренных (Генкин, Ап–фельцвейг, Талалаевский,
очевидно Акоев, больше фамилий у нас нет; потом ещё один симулянт, который годами
лежал в больнице, притворяясь, что у него «циркулирует нога», — такой интеллигентный
способ борьбы они допускали; а в самой Комиссии явно — Макеев, очевидно и
Бершадская) — все они с самого начала упрекали, что «не надо было начинать»; и когда
проходы заделали— не надо было подкапываться; что всё затеяла бандеровская накипь, а
теперь надо поскорее уступить. (Да ведь и те убитые шестнадцать были — не с их лагпункта,
а уж евангелиста и вовсе смешно жалеть.) В записках Макеева выбрюзжано всё их
сектантское раздражение. Всё кругом — дурно, все — дурны, и опасности со всех сторон: от
начальства — новый срок, от бандеровцев — нож в спину. «Хотят всех железяками запугать
и заставить гибнуть». Кенгирский мятеж Макеев зло называет «кровавой игрой»,
«фальшивым козырем», «художественной самодеятельностью» бандеровцев, а то чаще —
«свадьбой». Расчёты и цели главарей мятежа он видит в распутстве, уклонении от работы и
оттяжке расплаты. (А сама ожидаемая расплата подразумевается у него как справедливая.)
Это очень верно отражает отношение благонамеренных ко всему лагерному движению
свободы 50–х годов. Но Макеев был весьма осторожен, ходил даже в руководителях
мятежа, — а Талалаевский эти упрёки рассыпал вслух— и слученковская служба
безопасности за агитацию, враждебную восставшим, посадила его в камеру кенгирской
тюрьмы.
Да, именно так. Восставшие и освободившие тюрьму арестанты теперь заводили свою.
Извечная усмешка. Правда, всего посажено было по разным поводам (сношение с хозяевами)
человека четыре, и ни один из них не был расстрелян (а наоборот, получил лучшее алиби
перед Руководством).
Вообще же тюрьму, особенно мрачную старую, построенную в 30–е годы, широко
показывали: её одиночки без окон, с маленьким люком наверху; топчаны без ножек, то есть
попросту деревянные щиты внизу, на цементном полу, где ещё холодней и сырей, чем во
всей холодной камере; рядом с топчаном, то есть уже на полу, как для собаки, грубая
глиняная миска.
Туда отдел агитации устраивал экскурсии для своих — кому не привелось посидеть и,
может быть, не придётся. Туда водили и приходящих генералов (они не были очень
поражены). Просили прислать сюда и экскурсию из вольных жителей посёлка— ведь на
объектах они всё равно сейчас без заключённых не работают. И даже такую экскурсию
генералы прислали — разумеется, не из простых работяг, а персонал подобранный, который
не нашёл, чем возмутиться.
Встречно и начальство предложило свозить экскурсию из заключённых на Рудник (1–е
и 2–е лаготделения Степлага), где, по лагерным слухам, тоже вспыхнул мятеж (кстати, слова
этого мятеж, или ещё хуже восстание, избегали по своим соображениям и рабы и
рабовладельцы, заменяя стыдливо–смягчающим словом сабантуи]. Выборные поехали и
убедились, что там–таки действительно всё по–старому, выходят на работу.
Много надежд связывалось с распространением таких забастовок! Теперь вернувшиеся
выборные привезли с собой уныние.
(А свозили–то их вовремя. Рудник, конечно, был взбудоражен, от вольных слышали
были и небылицы о кенгирском мятеже. В том же июне так сошлось, что многим сразу
отказали в жалобах на пересмотр. И какой–то пацан полусумасшедший был ранен
н&запретке. И на Руднике тоже началась забастовка, сбили ворота между лагпунктами,
вывалили на линейку. На вышках появились пулемёты. Вывесил кто–то плакат с
антисоветскими лозунгами и кличем «Свобода или смерть!». Но его сняли, заменили
плакатом с законными требованиями и обязательством полностью возместить убытки от