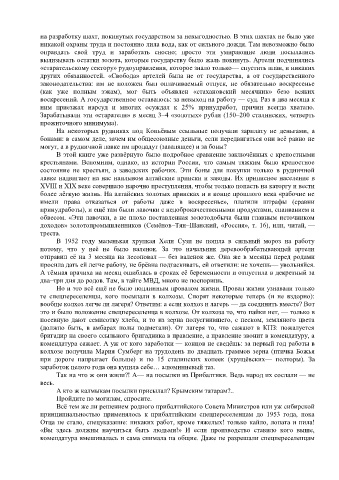Page 801 - Архипелаг ГУЛаг
P. 801
на разработку шахт, покинутых государством за невыгодностью. В этих шахтах не было уже
никакой охраны труда и постоянно лила вода, как от сильного дождя. Там невозможно было
оправдать свой труд и заработать сносно; просто эти умирающие люди посылались
вылизывать остатки золота, которые государству было жаль покинуть. Артели подчинялись
«старательскому сектору» рудоуправления, которое знало только— спустить план, и никаких
других обязанностей. «Свобода» артелей была не от государства, а от государственного
законодательства: им не положен был оплачиваемый отпуск, не обязательно воскресенье
(как уже полным зэкам), мог быть объявлен «стахановский месячник» безо всяких
воскресений. А государственное оставалось: за невыход на работу — суд. Раз в два месяца к
ним приезжал нарсуд и многих осуждал к 25% принудработ, причин всегда хватало.
Зарабатывали эти «старатели» в месяц 3–4 «золотых» рубля (150–200 сталинских, четверть
прожиточного минимума).
На некоторых рудниках под Копьёвым ссыльные получали зарплату не деньгами, а
бонами: в самом деле, зачем им общесоюзные деньги, если передвигаться они всё равно не
могут, а в рудничной лавке им продадут (завалящее) и за боны?
В этой книге уже развёрнуто было подробное сравнение заключённых с крепостными
крестьянами. Вспомним, однако, из истории России, что самым тяжким было крепостное
состояние не крестьян, а заводских рабочих. Эти боны для покупки только в рудничной
лавке надвигают на нас наплывом алтайские прииски и заводы. Их приписное население в
XVIII и XIX веке совершало нарочно преступления, чтобы только попасть на каторгу и вести
более лёгкую жизнь. На алтайских золотых приисках и в конце прошлого века «рабочие не
имели права отказаться от работы даже в воскресенье», платили штрафы (сравни
принудработы), и ещё там были лавочки с недоброкачественными продуктами, спаиванием и
обвесом. «Эти лавочки, а не плохо поставленная золотодобыча были главным источником
доходов» золотопромышленников (Семёнов–Тян–Шанский, «Россия», т. 16), или, читай, —
треста.
В 1952 году маленькая хрупкая Хели Сузи не пошла в сильный мороз на работу
потому, что у неё не было валенок. За это начальник деревообрабатывающей артели
отправил её на 3 месяца на лесоповал — без валенок же. Она же в месяцы перед родами
просила дать ей легче работу, не брёвна подтаскивать, ей ответили: не хочешь— увольняйся.
А тёмная врачиха на месяц ошиблась в сроках её беременности и отпустила в декретный за
два–три дня до родов. Там, в тайге МВД, много не поспоришь.
Но и это всё ещё не было подлинным провалом жизни. Провал жизни узнавали только
те спецпереселенцы, кого посылали в колхозы. Спорят некоторые теперь (и не вздорно):
вообще колхоз легче ли лагеря? Ответим: а если колхоз и лагерь — да соединить вместе? Вот
это и было положение спецпереселенца в колхозе. От колхоза то, что пайки нет, — только в
посевную дают семисотку хлеба, и то из зерна полусгнившего, с песком, земляного цвета
(должно быть, в амбарах полы подметали). От лагеря то, что сажают в КПЗ: пожалуется
бригадир на своего ссыльного бригадника в правление, а правление звонит в комендатуру, а
комендатура сажает. А уж от кого заработки — концов не сведёшь: за первый год работы в
колхозе получила Мария Сумберг на трудодень по двадцать граммов зерна (птичка Божья
при дороге напрыгает больше) и по 15 сталинских копеек (хрущёвских— полторы). За
заработок целого года она купила себе… алюминиевый таз.
Так на что ж они жили?! А— на посылки из Прибалтики. Ведь народ их сослали — не
весь.
А кто ж калмыкам посылки присылал? Крымским татарам?..
Пройдите по могилам, спросите.
Всё тем же ли решением родного прибалтийского Совета Министров или уж сибирской
принципиальностью применялось к прибалтийским спецпереселенцам до 1953 года, пока
Отца не стало, спецуказание: никаких работ, кроме тяжелых! только кайло, лопата и пила!
«Вы здесь должны научиться быть людьми!» И если производство ставило кого выше,
комендатура вмешивалась и сама снимала на общие. Даже не разрешали спецпереселенцам