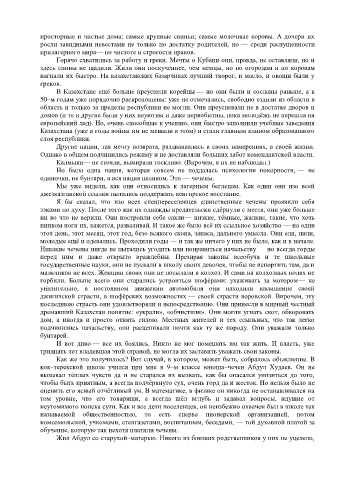Page 803 - Архипелаг ГУЛаг
P. 803
просторные и чистые дома; самые крупные свиньи; самые молочные коровы. А дочери их
росли завидными невестами не только по достатку родителей, но — среди распущенности
прилагерного мира— по чистоте и строгости нравов.
Горячо схватились за работу и греки. Мечты о Кубани они, правда, не оставляли, но и
здесь спины не щадили. Жили они поскученнее, чем немцы, но по огородам и по коровам
нагнали их быстро. На казахстанских базарчиках лучший творог, и масло, и овощи были у
греков.
В Казахстане ещё больше преуспели корейцы — но они были и сосланы раньше, а к
50–м годам уже порядочно раскрепощены: уже не отмечались, свободно ездили из области в
область и только за пределы республики не могли. Они преуспевали не в достатке дворов и
домов (и те и другие были у них неуютны и даже первобытны, пока молодёжь не перешла на
европейский лад). Но, очень способные к учению, они быстро заполнили учебные заведения
Казахстана (уже в годы войны им не мешали в этом) и стали главным клином образованного
слоя республики.
Другие нации, тая мечту возврата, раздваивались в своих намерениях, в своей жизни.
Однако в общем подчинились режиму и не доставляли больших забот комендантской власти.
Калмыки— не стояли, вымирали тоскливо. (Впрочем, я их не наблюдал.)
Но была одна нация, которая совсем не поддалась психологии покорности, — не
одиночки, не бунтари, а вся нация целиком. Это — чечены.
Мы уже видели, как они относились к лагерным беглецам. Как одни они изо всей
джезказганской ссылки пытались поддержать кенгирское восстание.
Я бы сказал, что изо всех спецпереселенцев единственные чечены проявили себя
зэками по духу. После того как их однажды предательски сдёрнули с места, они уже больше
ни во что не верили. Они построили себе сакли— низкие, тёмные, жалкие, такие, что хоть
пинком ноги их, кажется, разваливай. И такое же было всё их ссыльное хозяйство — на один
этот день, этот месяц, этот год, безо всякого скопа, запаса, дальнего умысла. Они ели, пили,
молодые ещё и одевались. Проходили годы — и так же ничего у них не было, как и в начале.
Никакие чечены нигде не пытались угодить или понравиться начальству — но всегда горды
перед ним и даже открыто враждебны. Презирая законы всеобуча и те школьные
государственные науки, они не пускали в школу своих девочек, чтобы не испортить там, да и
мальчиков не всех. Женщин своих они не посылали в колхоз. И сами на колхозных полях не
горбили. Больше всего они старались устроиться шофёрами: ухаживать за мотором— не
унизительно, в постоянном движении автомобиля они находили насыщение своей
джигитской страсти, в шофёрских возможностях — своей страсти воровской. Впрочем, эту
последнюю страсть они удовлетворяли и непосредственно. Они принесли в мирный честный
дремавший Казахстан понятие: «украли», «обчистили». Они могли угнать скот, обворовать
дом, а иногда и просто отнять силою. Местных жителей и тех ссыльных, что так легко
подчинились начальству, они расценивали почти как ту же породу. Они уважали только
бунтарей.
И вот диво — все их боялись. Никто не мог помешать им так жить. И власть, уже
тридцать лет владевшая этой страной, не могла их заставить уважать свои законы.
Как же это получилось? Вот случай, в котором, может быть, собралось объяснение. В
кок–терекской школе учился при мне в 9–м классе юноша–чечен Абдул Худаев. Он не
вызывал тёплых чувств да и не старался их вызвать, как бы опасался унизиться до того,
чтобы быть приятным, а всегда подчёркнуто сух, очень горд да и жесток. Но нельзя было не
оценить его ясный отчётливый ум. В математике, в физике он никогда не останавливался на
том уровне, что его товарищи, а всегда шёл вглубь и задавал вопросы, идущие от
неутомимого поиска сути. Как и все дети поселенцев, он неизбежно охвачен был в школе так
называемой общественностью, то есть сперва пионерской организацией, потом
комсомольской, учкомами, стенгазетами, воспитанием, беседами, — той духовной платой за
обучение, которую так нехотя платили чечены.
Жил Абдул со старухой–матерью. Никого из близких родственников у них не уцелело,