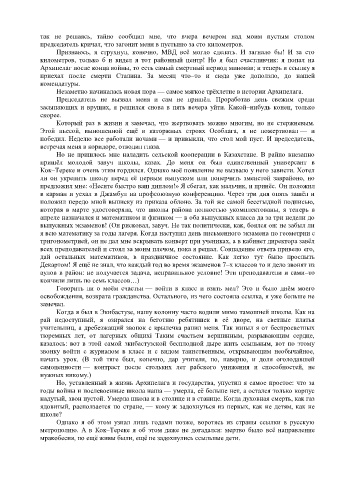Page 818 - Архипелаг ГУЛаг
P. 818
так не решаясь, тайно сообщил мне, что вчера вечером над моим пустым столом
председатель кричал, что загонит меня в пустыню за сто километров.
Признаюсь, я струхнул, конечно, МВД всё могло сделать. И загнало бы! И за сто
километров, только б и видел я тот районный центр! Но я был счастливчик: я попал на
Архипелаг после конца войны, то есть самый смертный период миновав; и теперь в ссылку я
приехал после смерти Сталина. За месяц что–то и сюда уже доползло, до нашей
комендатуры.
Незаметно начиналась новая пора — самое мягкое трёхлетие в истории Архипелага.
Председатель не вызвал меня и сам не пришёл. Проработав день свежим среди
засыпающих и врущих, я решился снова в пять вечера уйти. Какой–нибудь конец, только
скорее.
Который раз в жизни я замечал, что жертвовать можно многим, но не стержневым.
Этой пьесой, выношенной ещё в каторжных строях Особлага, я не пожертвовал — и
победил. Неделю все работали ночами — и привыкли, что стол мой пуст. И председатель,
встречая меня в коридоре, отводил глаза.
Но не пришлось мне наладить сельской кооперации в Казахстане. В райпо внезапно
пришёл молодой завуч школы, казах. До меня он был единственный универсант в
Кок–Тереке и очень этим гордился. Однако моё появление не вызвало у него зависти. Хотел
ли он укрепить школу перед её первым выпуском или поперчить змеистой заврайоно, но
предложил мне: «Несите быстро ваш диплом!» Я сбегал, как мальчик, и принёс. Он положил
в карман и уехал в Джамбул на профсоюзную конференцию. Через три дня опять зашёл и
положил передо мной выписку из приказа облоно. За той же самой бесстыдной подписью,
которая в марте удостоверяла, что школы района полностью укомплектованы, я теперь в
апреле назначался и математиком и физиком — в оба выпускных класса да за три недели до
выпускных экзаменов! (Он рисковал, завуч. Не так политически, как, боялся он: не забыл ли
я всю математику за годы лагеря. Когда наступил день письменного экзамена по геометрии с
тригонометрией, он не дал мне вскрывать конверт при учениках, а в кабинет директора завёл
всех преподавателей и стоял за моим плечом, пока я решал. Совпадение ответа привело его,
дай остальных математиков, в праздничное состояние. Как легко тут было прослыть
Декартом! Я ещё не знал, что каждый год во время экзаменов 7–х классов то и дело звонят из
аулов в район: не получается задача, неправильное условие! Эти преподаватели и сами–то
кончили лишь по семь классов…)
Говорить ли о моём счастьи — войти в класс и взять мел? Это и было днём моего
освобождения, возврата гражданства. Остального, из чего состояла ссылка, я уже больше не
замечал.
Когда я был в Экибастузе, нашу колонну часто водили мимо тамошней школы. Как на
рай недоступный, я озирался на беготню ребятишек в её дворе, на светлые платья
учительниц, а дребезжащий звонок с крылечка ранил меня. Так изныл я от беспросветных
тюремных лет, от лагерных общихі Таким счастьем вершинным, разрывающим сердце,
казалось: вот в этой самой экибастузской бесплодной дыре жить ссыльным, вот по этому
звонку войти с журналом в класс и с видом таинственным, открывающим необычайное,
начать урок. (В той тяге был, конечно, дар учителя, но, наверно, и доля оголодавшей
самоценности — контраст после стольких лет рабского унижения и способностей, не
нужных никому.)
Но, уставленный в жизнь Архипелага и государства, упустил я самое простое: что за
годы войны и послевоенные школа наша — умерла, её больше нет, а остался только корпус
надутый, звон пустой. Умерла школа и в столице и в станице. Когда духовная смерть, как газ
ядовитый, расползается по стране, — кому ж задохнуться из первых, как не детям, как не
школе?
Однако я об этом узнал лишь годами позже, воротясь из страны ссылки в русскую
метрополию. А в Кок–Тереке я об этом даже не догадался: мертво было всё направление
мракобесия, но ещё живы были, ещё не задохнулись ссыльные дети.