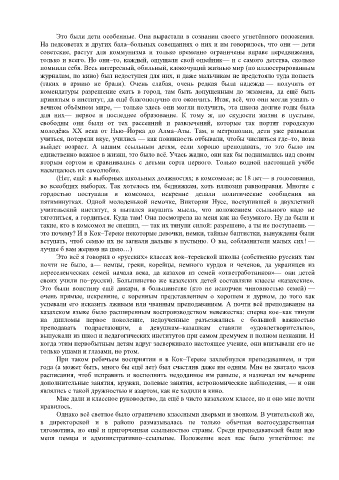Page 819 - Архипелаг ГУЛаг
P. 819
Это были дети особенные. Они вырастали в сознании своего угнетённого положения.
На педсоветах и других бала–больных совещаниях о них и им говорилось, что они — дети
советские, растут для коммунизма и только временно ограничены вправе передвижения,
только и всего. Но они–то, каждый, ощущали свой ошейник— и с самого детства, сколько
помнили себя. Весь интересный, обильный, клокочущий жизнью мир (по иллюстрированным
журналам, по кино) был недоступен для них, и даже мальчикам не предстояло туда попасть
(таких в армию не брали). Очень слабая, очень редкая была надежда — получить от
комендатуры разрешение ехать в город, там быть допущенным до экзамена, да ещё быть
принятым в институт, да ещё благополучно его окончить. Итак, всё, что они могли узнать о
вечном объёмном мире, — только здесь они могли получить, эта школа долгие годы была
для них— первое и последнее образование. К тому ж, по скудости жизни в пустыне,
свободны они были от тех рассеяний и развлечений, которые так портят городскую
молодёжь XX века от Нью–Йорка до Алма–Аты. Там, в метрополии, дети уже развыкли
учиться, потеряли вкус, учились — как повинность отбывали, чтобы числиться где–то, пока
выйдет возраст. А нашим ссыльным детям, если хорошо преподавать, то это было им
единственно важное в жизни, это было всё. Учась жадно, они как бы поднимались над своим
вторым сортом и сравнивались с детьми сорта первого. Только водной настоящей учёбе
насыщалось их самолюбие.
(Нет, ещё: в выборных школьных должностях; в комсомоле; ас 18 лет— в голосовании,
во всеобщих выборах. Так хотелось им, бедняжкам, хоть иллюзии равноправия. Многие с
гордостью поступали в комсомол, искренне делали политические сообщения на
пятиминутках. Одной молоденькой немочке, Виктории Нусс, поступившей в двухлетний
учительский институт, я пытался внушить мысль, что положением ссыльного надо не
тяготиться, а гордиться. Куда там! Она посмотрела на меня как на безумного. Ну да были и
такие, кто в комсомол не спешил, — так их тянули силой: разрешено, а ты не поступаешь —
это почему? И в Кок–Тереке некоторые девочки, немки, тайные баптистки, вынуждены были
вступать, чтоб семью их не загнали дальше в пустыню. О вы, соблазнители малых сих! —
лучше б вам жернов на шею…)
Это всё я говорил о «русских» классах кок–терекской школы (собственно русских там
почти не было, а— немцы, греки, корейцы, немного курдов и чеченов, да украинцев из
переселенческих семей начала века, да казахов из семей «ответработников»— они детей
своих учили по–русски). Большинство же казахских детей составляли классы «казахские».
Это были воистину ещё дикари, в большинстве (кто не испорчен чиновностью семей) —
очень прямые, искренние, с коренным представлением о хорошем и дурном, до того как
успевали его исказить лживым или чванным преподаванием. А почти всё преподавание на
казахском языке было расширенным воспроизводством невежества: сперва кое–как тянули
на дипломы первое поколение, недоученные разъезжались с большой важностью
преподавать подрастающим, а девушкам–казашкам ставили «удовлетворительно»,
выпускали из школ и педагогических институтов при самом дремучем и полном незнании. И
когда этим первобытным детям вдруг засверкивало настоящее учение, они впитывали его не
только ушами и глазами, но ртом.
При таком ребячьем восприятии я в Кок–Тереке захлебнулся преподаванием, и три
года (а может быть, много бы ещё лет) был счастлив даже им одним. Мне не хватало часов
расписания, чтоб исправить и восполнить недоданное им раньше, я назначал им вечерние
дополнительные занятия, кружки, полевые занятия, астрономические наблюдения, — и они
являлись с такой дружностью и азартом, как не ходили в кино.
Мне дали и классное руководство, да ещё в чисто казахском классе, но и оно мне почти
нравилось.
Однако всё светлое было ограничено классными дверьми и звонком. В учительской же,
в директорской и в районо размазывалась не только обычная всегосударственная
тягомотина, но ещё и пригорченная ссыльностью страны. Среди преподавателей были идо
меня немцы и административно–ссыльные. Положение всех нас было угнетённое: не