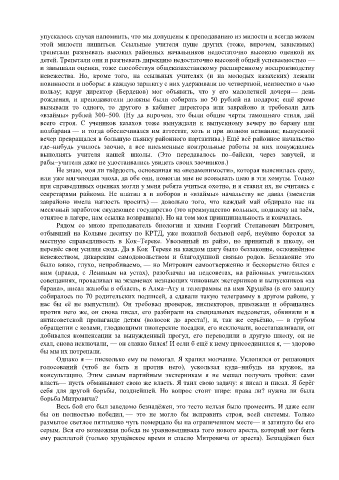Page 820 - Архипелаг ГУЛаг
P. 820
упускалось случая напомнить, что мы допущены к преподаванию из милости и всегда можем
этой милости лишиться. Ссыльные учителя пуще других (тоже, впрочем, зависимых)
трепетали разгневать высоких районных начальников недостаточно высокою оценкой их
детей. Трепетали они и разгневать дирекцию недостаточно высокой общей успеваемостью —
и завышали оценки, тоже способствуя общеказахстанскому расширенному воспроизводству
невежества. Но, кроме того, на ссыльных учителях (и на молодых казахских) лежали
повинности и поборы: в каждую зарплату с них удерживали по четвертной, неизвестно в чью
пользу; вдруг директор (Берденов) мог объявить, что у его малолетней дочери— день
рождения, и преподаватели должны были собирать по 50 рублей на подарок; ещё кроме
вызывали то одного, то другого в кабинет директора или заврайоно и требовали дать
«взаймы» рублей 300–500. (Ну да впрочем, это были общие черты тамошнего стиля, дай
всего строя. С учеников–казахов тоже вынуждали к выпускному вечеру по барану или
полбарана — и тогда обеспечивался им аттестат, хоть и при полном незнании; выпускной
вечер превращался в большую пьянку районного партактива.) Ещё всё районное начальство
где–нибудь училось заочно, а все письменные контрольные работы за них понуждались
выполнять учителя нашей школы. (Это передавалось по–байски, через завучей, и
рабы–учителя даже не удостаивались увидеть своих заочников.)
Не знаю, моя ли твёрдость, основанная на «незаменимости», которая выяснилась сразу,
или уже мягчеющая эпоха, да обе они, помогли мне не всовывать шею в эти хомуты. Только
при справедливых оценках могли у меня ребята учиться охотно, и я ставил их, не считаясь с
секретарями райкома. Не платил я и поборов и «взаймы» начальству не давал (змеистая
заврайоно имела наглость просить) — довольно того, что каждый май обдирало нас на
месячный заработок скудеющее государство (это преимущество вольных, подписку на заём,
отнятое в лагере, нам ссылка возвращала). Но на том моя принципиальность и кончалась.
Рядом со мною преподаватель биологии и химии Георгий Степанович Митрович,
отбывший на Колыме десятку по КРТД, уже пожилой больной серб, неуёмно боролся за
местную справедливость в Кок–Тереке. Уволенный из райзо, но принятый в школу, он
перенёс свои усилия сюда. Да в Кок–Тереке на каждом шагу было беззаконие, осложнённое
невежеством, дикарским самодовольством и благодушной связью родов. Беззаконие это
было вязко, глухо, непробиваемо, — но Митрович самоотверженно и бескорыстно бился с
ним (правда, с Лениным на устах), разоблачал на педсоветах, на районных учительских
совещаниях, проваливал на экзаменах незнающих чиновных экстерников и выпускников «за
барана», писал жалобы в область, в Алма–Ату и телеграммы на имя Хрущёва (в его защиту
собиралось по 70 родительских подписей, а сдавали такую телеграмму в другом районе, у
нас бы её не выпустили). Он требовал проверок, инспекторов, приезжали и обращались
против него же, он снова писал, его разбирали на специальных педсоветах, обвиняли и в
антисоветской пропаганде детям (волосок до ареста!), и, так же серьёзно, — в грубом
обращении с козами, глодающими пионерские посадки, его исключали, восстанавливали, он
добивался компенсации за вынужденный прогул, его переводили в другую школу, он не
ехал, снова исключали, — он славно бился! И если б ещё к нему присоединился я, — здорово
бы мы их потрепали.
Однако я — нисколько ему не помогал. Я хранил молчание. Уклонялся от решающих
голосований (чтоб не быть и против него), ускользал куда–нибудь на кружок, на
консультацию. Этим самым партийным экстерникам я не мешал получать тройки: сами
власть— пусть обманывают свою же власть. Я таил свою задачу: я писал и писал. Я берёг
себя для другой борьбы, позднейшей. Но вопрос стоит шире: права ли? нужна ли была
борьба Митровича?
Весь бой его был заведомо безнадёжен, это тесто нельзя было промесить. И даже если
бы он полностью победил, — это не могло бы исправить строя, всей системы. Только
размытое светлое пятнышко чуть померцало бы на ограниченном месте— и затянуло бы его
серым. Вся его возможная победа не уравновешивала того нового ареста, который мог быть
ему расплатой (только хрущёвское время и спасло Митровича от ареста). Безнадёжен был