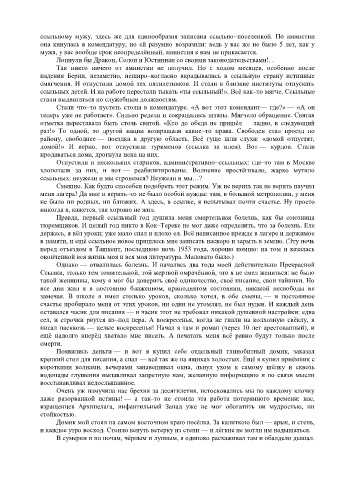Page 824 - Архипелаг ГУЛаг
P. 824
ссыльному мужу, здесь же для единообразия записана ссыльно–поселенкой. По амнистии
она кинулась в комендатуру, но ей разумно возразили: ведь у вас же не было 5 лет, как у
мужа, у вас вообще срок неопределённый, амнистия к вам не прикасается.
Лопнули бы Дракон, Солон и Юстиниан со своими законодательствами!. .
Так никто ничего от амнистии не получил. Но с ходом месяцев, особенно после
падения Берии, незаметно, неширо–когласно вкрадывались в ссыльную страну истинные
смягчения. И отпустили домой тех пятилетников. И стали в близкие институты отпускать
ссыльных детей. И на работе перестали тыкать «ты ссыльный!». Всё как–то мягче. Ссыльные
стали выдвигаться по служебным должностям.
Стали что–то пустеть столы в комендатуре. «А вот этот комендант— где?» — «А он
теперь уже не работает». Сильно редели и сокращались штаты. Мягчело обращение. Святая
отметка переставала быть столь святой. «Кто до обеда не пришёл — ладно, в следующий
раз!» То одной, то другой нации возвращали какие–то права. Свободен стал проезд по
району, свободнее — поездка в другую область. Всё гуще шли слухи: «домой отпустят,
домой!» И верно, вот отпустили туркменов (ссылка за плен). Вот — курдов. Стали
продаваться дома, дрогнула цена на них.
Отпустили и нескольких стариков, административно–ссыльных: где–то там в Москве
хлопотали за них, и вот — реабилитированы. Волнение простёгивало, жарко мутило
ссыльных: неужели и мы стронемся? Неужели и мы…?
Смешно. Как будто способен подобреть этот режим. Уж не верить так не верить научил
меня лагерь! Да мне и верить–то не было особой нужды: там, в большой метрополии, у меня
не было ни родных, ни близких. А здесь, в ссылке, я испытывал почти счастье. Ну просто
никогда я, кажется, так хорошо не жил.
Правда, первый ссыльный год душила меня смертельная болезнь, как бы союзница
тюремщиков. И целый год никто в Кок–Тереке не мог даже определить, что за болезнь. Еле
держась, я вёл уроки; уже мало спал и плохо ел. Всё написанное прежде в лагере и держимое
в памяти, и ещё ссыльное новое пришлось мне записать наскоро и зарыть в землю. (Эту ночь
перед отъездом в Ташкент, последнюю ночь 1953 года, хорошо помню: на том и казалась
оконченной вся жизнь моя и вся моя литература. Маловато было.)
Однако — отвалилась болезнь. И начались два года моей действительно Прекрасной
Ссылки, только тем томительной, той жертвой омрачённой, что я не смел жениться: не было
такой женщины, кому я мог бы доверить своё одиночество, своё писание, свои тайники. Но
все дни жил я в постоянно блаженном, приподнятом состоянии, никакой несвободы не
замечая. В школе я имел столько уроков, сколько хотел, в обе смены, — и постоянное
счастье пробирало меня от этих уроков, ни один не утомлял, не был нуден. И каждый день
оставался часик для писания — и часик этот не требовал никакой душевной настройки: едва
сел, и строчки рвутся из–под пера. А воскресенья, когда не гнали на колхозную свёклу, я
писал насквозь — целые воскресенья! Начал я там и роман (через 10 лет арестованный), и
ещё надолго вперёд хватало мне писать. А печатать меня всё равно будут только после
смерти.
Появились деньги — и вот я купил себе отдельный глинобитный домик, заказал
крепкий стол для писания, а спал — всё так же на ящиках холостых. Ещё я купил приёмник с
короткими волнами, вечерами занавешивал окна, льнул ухом к самому шёлку и сквозь
водопады глушения вылавливал запретную нам, желанную информацию и по связи мысли
восстанавливал недослышанное.
Очень уж измучила нас брехня за десятилетия, истосковались мы по каждому клочку
даже разорванной истины! — а так–то не стоила эта работа потерянного времени: нас,
взращенцев Архипелага, инфантильный Запад уже не мог обогатить ни мудростью, ни
стойкостью.
Домик мой стоял на самом восточном краю посёлка. За калиткою был — арык, и степь,
и каждое утро восход. Стоило венуть ветерку из степи — и лёгкие не могли им надышаться.
В сумерки и по ночам, чёрным и лунным, я одиноко расхаживал там и обалдело дышал.