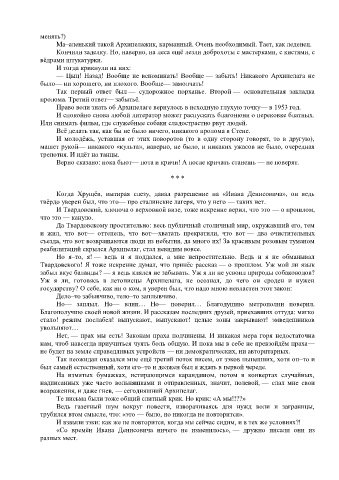Page 847 - Архипелаг ГУЛаг
P. 847
менять?)
Ma–аленький такой Архипелажик, карманный. Очень необходимый. Тает, как леденец.
Кончили заделку. Но, наверно, на леса ещё лезли доброхоты с мастерками, с кистями, с
вёдрами штукатурки.
И тогда крикнули на них:
— Цыц! Назад! Вообще не вспоминать! Вообще — забыть! Никакого Архипелага не
было— ни хорошего, ни плохого. Вообще— замолчать!
Так первый ответ был — судорожное порханье. Второй — основательная закладка
пролома. Третий ответ— забытьё.
Право воли знать об Архипелаге вернулось в исходную глухую точку— в 1953 год.
И спокойно снова любой литератор может распускать благонюни о перековке блатных.
Или снимать фильм, где служебные собаки сладострастно рвут людей.
Всё делать так, как бы не было ничего, никакого пролома в Стене.
И молодёжь, уставшая от этих поворотов (то в одну сторону говорят, то в другую),
машет рукой— никакого «культа», наверно, не было, и никаких ужасов не было, очередная
трепотня. И идёт на танцы.
Верно сказано: пока бьют— пота и кричи! А после кричать станешь — не поверят.
* * *
Когда Хрущёв, вытирая слезу, давал разрешение на «Ивана Денисовича», он ведь
твёрдо уверен был, что это— про сталинские лагеря, что у него — таких нет.
И Твардовский, хлопоча о верховной визе, тоже искренне верил, что это — о прошлом,
что это — кануло.
Да Твардовскому простительно: весь публичный столичный мир, окружавший его, тем
и жил, что вот— оттепель, что вот—хватать прекратили, что вот — два очистительных
съезда, что вот возвращаются люди из небытия, да много их! За красивым розовым туманом
реабилитаций скрылся Архипелаг, стал невидим вовсе.
Но я–то, я! — ведь и я поддался, а мне непростительно. Ведь и я не обманывал
Твардовского! Я тоже искренне думал, что принёс рассказ — о прошлом. Уж мой ли язык
забыл вкус баланды? — я ведь клялся не забывать. Уж я ли не усвоил природы собаководов?
Уж я ли, готовясь в летописцы Архипелага, не осознал, до чего он сроден и нужен
государству? О себе, как ни о ком, я уверен был, что надо мною невластен этот закон:
Дело–то забывчиво, тело–то заплывчиво.
Но— заплыл. Но— влип… Но— поверил… Благодушию метрополии поверил.
Благополучию своей новой жизни. И рассказам последних друзей, приехавших оттуда: мягко
стало! режим послабел! выпускают, выпускают! целые зоны закрывают! эмведешников
увольняют…
Нет, — прах мы есть! Законам праха подчинены. И никакая мера горя недостаточна
нам, чтоб навсегда приучиться чуять боль общую. И пока мы в себе не превзойдём праха—
не будет на земле справедливых устройств — ни демократических, ни авторитарных.
Так неожидан оказался мне ещё третий поток писем, от зэков нынешних, хотя он–то и
был самый естественный, хотя его–то и должен был я ждать в первой череде.
На измятых бумажках, истирающимся карандашом, потом в конвертах случайных,
надписанных уже часто вольняшками и отправленных, значит, полевой, — слал мне свои
возражения, и даже гнев, — сегодняшний Архипелаг.
Те письма были тоже общий слитный крик. Но крик: «А мы!!??»
Ведь газетный шум вокруг повести, изворачиваясь для нужд воли и заграницы,
трубился втом смысле, что: «это — было, но никогда не повторится».
И взвыли зэки: как же не повторится, когда мы сейчас сидим, и в тех же условиях?!
«Со времён Ивана Денисовича ничего не изменилось», — дружно писали они из
разных мест.