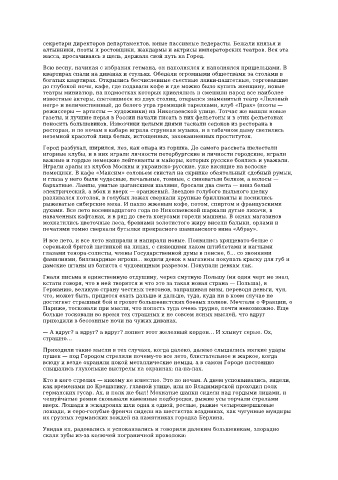Page 27 - Белая гвардия
P. 27
секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и
алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта
масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на Город.
Всю весну, начиная с избрания гетмана, он наполнялся и наполнялся пришельцами. В
квартирах спали на диванах и стульях. Обедали огромными обществами за столами в
богатых квартирах. Открылись бесчисленные съестные лавки-паштетные, торговавшие
до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе и где можно было купить женщину, новые
театры миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее
известные актеры, слетевшиеся из двух столиц, открылся знаменитый театр «Лиловый
негр» и величественный, до белого утра гремящий тарелками, клуб «Прах» (поэты —
режиссеры — артисты — художники) на Николаевской улице. Тотчас же вышли новые
газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны и в этих фельетонах
поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали седоков из ресторана в
ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в табачном дыму светились
неземной красотой лица белых, истощенных, закокаиненных проституток.
Город разбухал, ширился, лез, как опара из горшка. До самого рассвета шелестели
игорные клубы, и в них играли личности петербургские и личности городские, играли
важные и гордые немецкие лейтенанты и майоры, которых русские боялись и уважали.
Играли арапы из клубов Москвы и украинско-русские, уже висящие на волоске
помещики. В кафе «Максим» соловьем свистал на скрипке обаятельный сдобный румын,
и глаза у него были чудесные, печальные, томные, с синеватым белком, а волосы —
бархатные. Лампы, увитые цыганскими шалями, бросали два света — вниз белый
электрический, а вбок и вверх — оранжевый. Звездою голубого пыльного шелку
разливался потолок, в голубых ложах сверкали крупные бриллианты и лоснились
рыжеватые сибирские меха. И пахло жженым кофе, потом, спиртом и французскими
духами. Все лето восемнадцатого года по Николаевской шаркали дутые лихачи, в
наваченных кафтанах, и в ряд до света конусами горели машины. В окнах магазинов
мохнатились цветочные леса, бревнами золотистого жиру висели балыки, орлами и
печатями томно сверкали бутылки прекрасного шампанского вина «Абрау».
И все лето, и все лето напирали и напирали новые. Появились хрящевато-белые с
серенькой бритой щетинкой на лицах, с сияющими лаком штиблетами и наглыми
глазами тенора-солисты, члены Государственной думы в пенсне, б… со звонкими
фамилиями, биллиардные игроки… водили девок в магазины покупать краску для губ и
дамские штаны из батиста с чудовищным разрезом. Покупали девкам лак.
Гнали письма в единственную отдушину, через смутную Польшу (ни один черт не знал,
кстати говоря, что в ней творится и что это за такая новая страна — Польша), в
Германию, великую страну честных тевтонов, запрашивая визы, переводя деньги, чуя,
что, может быть, придется ехать дальше и дальше, туда, куда ни в коем случае не
достигнет страшный бой и грохот большевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о
Париже, тосковали при мысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно. Еще
больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг
приходили в бессонные ночи на чужих диванах.
— А вдруг? а вдруг? а вдруг? лопнет этот железный кордон… И хлынут серые. Ох,
страшно…
Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко, далеко слышались мягкие удары
пушек — под Городом стреляли почему-то все лето, блистательное и жаркое, когда
всюду и везде охраняли покой металлические немцы, а в самом Городе постоянно
слышались глухонькие выстрелы на окраинах: па-па-пах.
Кто в кого стрелял — никому не известно. Это по ночам. А днем успокаивались, видели,
как временами по Крещатику, главной улице, или по Владимирской проходил полк
германских гусар. Ах, и полк же был! Мохнатые шапки сидели над гордыми лицами, и
чешуйчатые ремни сковывали каменные подбородки, рыжие усы торчали стрелами
вверх. Лошади в эскадронах шли одна к одной, рослые, рыжие четырехвершковые
лошади, и серо-голубые френчи сидели на шестистах всадниках, как чугунные мундиры
их грузных германских вождей на памятниках городка Берлина.
Увидав их, радовались и успокаивались и говорили далеким большевикам, злорадно
скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки: