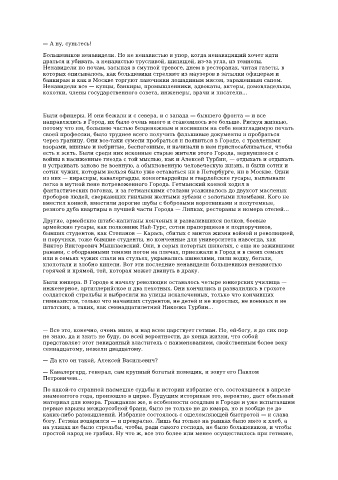Page 28 - Белая гвардия
P. 28
— А ну, суньтесь!
Большевиков ненавидели. Но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти
драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла, из темноты.
Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем в ресторанах, читая газеты, в
которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров в затылки офицерам и
банкирам и как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, зараженным сапом.
Ненавидели все — купцы, банкиры, промышленники, адвокаты, актеры, домовладельцы,
кокотки, члены государственного совета, инженеры, врачи и писатели…
Были офицеры. И они бежали и с севера, и с запада — бывшего фронта — и все
направлялись в Город, их было очень много и становилось все больше. Рискуя жизнью,
потому что им, большею частью безденежным и носившим на себе неизгладимую печать
своей профессии, было труднее всего получить фальшивые документы и пробраться
через границу. Они все-таки сумели пробраться и появиться в Городе, с травлеными
взорами, вшивые и небритые, беспогонные, и начинали в нем приспосабливаться, чтобы
есть и жить. Были среди них исконные старые жители этого Города, вернувшиеся с
войны в насиженные гнезда с той мыслью, как и Алексей Турбин, — отдыхать и отдыхать
и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь, и были сотни и
сотни чужих, которым нельзя было уже оставаться ни в Петербурге, ни в Москве. Одни
из них — кирасиры, кавалергарды, конногвардейцы и гвардейские гусары, выплывали
легко в мутной пене потревоженного Города. Гетманский конвой ходил в
фантастических погонах, и за гетманскими столами усаживалось до двухсот масленых
проборов людей, сверкающих гнилыми желтыми зубами с золотыми пломбами. Кого не
вместил конвой, вместили дорогие шубы с бобровыми воротниками и полутемные,
резного дуба квартиры в лучшей части Города — Липках, рестораны и номера отелей…
Другие, армейские штабс-капитаны конченых и развалившихся полков, боевые
армейские гусары, как полковник Най-Турс, сотни прапорщиков и подпоручиков,
бывших студентов, как Степанов — Карась, сбитых с винтов жизни войной и революцией,
и поручики, тоже бывшие студенты, но конченные для университета навсегда, как
Виктор Викторович Мышлаевский. Они, в серых потертых шинелях, с еще не зажившими
ранами, с ободранными тенями погон на плечах, приезжали в Город и в своих семьях
или в семьях чужих спали на стульях, укрывались шинелями, пили водку, бегали,
хлопотали и злобно кипели. Вот эти последние ненавидели большевиков ненавистью
горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку.
Были юнкера. В Городе к началу революции оставалось четыре юнкерских училища —
инженерное, артиллерийское и два пехотных. Они кончились и развалились в грохоте
солдатской стрельбы и выбросили на улицы искалеченных, только что кончивших
гимназистов, только что начавших студентов, не детей и не взрослых, не военных и не
штатских, а таких, как семнадцатилетний Николка Турбин…
— Все это, конечно, очень мило, и над всем царствует гетман. Но, ей-богу, я до сих пор
не знаю, да и знать не буду, по всей вероятности, до конца жизни, что собой
представляет этот невиданный властитель с наименованием, свойственным более веку
семнадцатому, нежели двадцатому.
— Да кто он такой, Алексей Васильевич?
— Кавалергард, генерал, сам крупный богатый помещик, и зовут его Павлом
Петровичем…
По какой-то странной насмешке судьбы и истории избрание его, состоявшееся в апреле
знаменитого года, произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст обильный
материал для юмора. Гражданам же, в особенности оседлым в Городе и уже испытавшим
первые взрывы междоусобной брани, было не только не до юмора, но и вообще не до
каких-либо размышлений. Избрание состоялось с ошеломляющей быстротой — и слава
богу. Гетман воцарился — и прекрасно. Лишь бы только на рынках было мясо и хлеб, а
на улицах не было стрельбы, чтобы, ради самого господа, не было большевиков, и чтобы
простой народ не грабил. Ну что ж, все это более или менее осуществилось при гетмане,