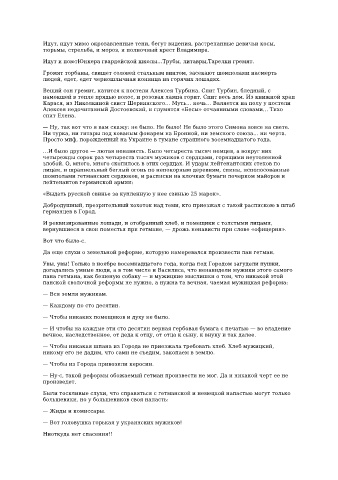Page 33 - Белая гвардия
P. 33
Идут, идут мимо окровавленные тени, бегут видения, растрепанные девичьи косы,
тюрьмы, стрельба, и мороз, и полночный крест Владимира.
Идут и поютЮнкера гвардейской школы…Трубы, литавры,Тарелки гремят.
Громят торбаны, свищет соловей стальным винтом, засекают шомполами насмерть
людей, едет, едет черношлычная конница на горячих лошадях.
Вещий сон гремит, катится к постели Алексея Турбина. Спит Турбин, бледный, с
намокшей в тепле прядью волос, и розовая лампа горит. Спит весь дом. Из книжной храп
Карася, из Николкиной свист Шервинского… Муть… ночь… Валяется на полу у постели
Алексея недочитанный Достоевский, и глумятся «Бесы» отчаянными словами… Тихо
спит Елена.
— Ну, так вот что я вам скажу: не было. Не было! Не было этого Симона вовсе на свете.
Ни турка, ни гитары под кованым фонарем на Бронной, ни земского союза… ни черта.
Просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного восемнадцатого года.
…И было другое — лютая ненависть. Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них
четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной
злобой. О, много, много скопилось в этих сердцах. И удары лейтенантских стеков по
лицам, и шрапнельный беглый огонь по непокорным деревням, спины, исполосованные
шомполами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и
лейтенантов германской армии:
«Выдать русской свинье за купленную у нее свинью 25 марок».
Добродушный, презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распискою в штаб
германцев в Город.
И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами,
вернувшиеся в свои поместья при гетмане, — дрожь ненависти при слове «офицерня».
Вот что было-с.
Да еще слухи о земельной реформе, которую намеревался произвести пан гетман.
Увы, увы! Только в ноябре восемнадцатого года, когда под Городом загудели пушки,
догадались умные люди, а в том числе и Василиса, что ненавидели мужики этого самого
пана гетмана, как бешеную собаку — и мужицкие мыслишки о том, что никакой этой
панской сволочной реформы не нужно, а нужна та вечная, чаемая мужицкая реформа:
— Вся земля мужикам.
— Каждому по сто десятин.
— Чтобы никаких помещиков и духу не было.
— И чтобы на каждые эти сто десятин верная гербовая бумага с печатью — во владение
вечное, наследственное, от деда к отцу, от отца к сыну, к внуку и так далее.
— Чтобы никакая шпана из Города не приезжала требовать хлеб. Хлеб мужицкий,
никому его не дадим, что сами не съедим, закопаем в землю.
— Чтобы из Города привозили керосин.
— Ну-с, такой реформы обожаемый гетман произвести не мог. Да и никакой черт ее не
произведет.
Были тоскливые слухи, что справиться с гетманской и немецкой напастью могут только
большевики, но у большевиков своя напасть:
— Жиды и комиссары.
— Вот головушка горькая у украинских мужиков!
Ниоткуда нет спасения!!