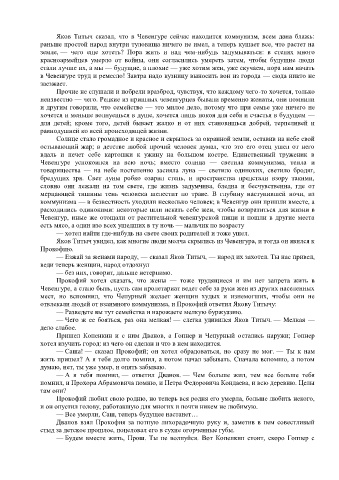Page 168 - Чевенгур
P. 168
Яков Титыч сказал, что в Чевенгуре сейчас находится коммунизм, всем дана блажь:
раньше простой народ внутри туловища ничего не имел, а теперь кушает все, что растет на
земле, — чего еще хотеть? Пора жить и над чем-нибудь задумываться: в степях много
красноармейцев умерло от войны, они согласились умереть затем, чтобы будущие люди
стали лучше их, а мы — будущие, а плохие — уже хотим жен, уже скучаем, пора нам начать
в Чевенгуре труд и ремесло! Завтра надо кузницу выносить вон из города — сюда никто не
заезжает.
Прочие не слушали и побрели вразброд, чувствуя, что каждому чего-то хочется, только
неизвестно — чего. Редкие из пришлых чевенгурцев бывали временно женаты, они помнили
и другим говорили, что семейство — это милое дело, потому что при семье уже ничего не
хочется и меньше волнуешься в душе, хочется лишь покоя для себя и счастья в будущем —
для детей; кроме того, детей бывает жалко и от них становишься добрей, терпеливей и
равнодушней ко всей происходящей жизни.
Солнце стало громадное и красное и скрылось за окраиной земли, оставив на небе свой
остывающий жар; в детстве любой прочий человек думал, что это его отец ушел от него
вдаль и печет себе картошки к ужину на большом костре. Единственный труженик в
Чевенгуре успокоился на всю ночь; вместо солнца — светила коммунизма, тепла и
товарищества — на небе постепенно засияла луна — светило одиноких, светило бродяг,
бредущих зря. Свет луны робко озарил степь, и пространства предстали взору такими,
словно они лежали на том свете, где жизнь задумчива, бледна и бесчувственна, где от
мерцающей тишины тень человека шелестит по траве. В глубину наступившей ночи, из
коммунизма — в безвестность уходили несколько человек; в Чевенгур они пришли вместе, а
расходились одинокими: некоторые шли искать себе жен, чтобы возвратиться для жизни в
Чевенгур, иные же отощали от растительной чевенгурской пищи и пошли в другие места
есть мясо, а один изо всех ушедших в ту ночь — мальчик по возрасту
— хотел найти где-нибудь на свете своих родителей и тоже ушел.
Яков Титыч увидел, как многие люди молча скрылись из Чевенгура, и тогда он явился к
Прокофию.
— Езжай за женами народу, — сказал Яков Титыч, — народ их захотел. Ты нас привел,
веди теперь женщин, народ отдохнул
— без них, говорит, дальше нетерпимо.
Прокофий хотел сказать, что жены — тоже трудящиеся и им нет запрета жить в
Чевенгуре, а стало быть, пусть сам пролетариат ведет себе за руки жен из других населенных
мест, но вспомнил, что Чепурный желает женщин худых и изнемогших, чтобы они не
отвлекали людей от взаимного коммунизма, и Прокофий ответил Якову Титычу:
— Разведете вы тут семейства и нарожаете мелкую буржуазию.
— Чего ж ее бояться, раз она мелкая! — слегка удивился Яков Титыч. — Мелкая —
дело слабое.
Пришел Копенкин и с ним Дванов, а Гопнер и Чепурный остались наружи; Гопнер
хотел изучить город: из чего он сделан и что в нем находится.
— Саша! — сказал Прокофий; он хотел обрадоваться, но сразу не мог. — Ты к нам
жить пришел? А я тебя долго помнил, а потом начал забывать. Сначала вспомню, а потом
думаю, нет, ты уже умер, и опять забываю.
— А я тебя помнил, — ответил Дванов. — Чем больше жил, тем все больше тебя
помнил, и Прохора Абрамовича помню, и Петра Федоровича Кондаева, и всю деревню. Целы
там они?
Прокофий любил свою родню, но теперь вся родня его умерла, больше любить некого,
и он опустил голову, работавшую для многих и почти никем не любимую.
— Все умерли, Саш, теперь будущее настанет…
Дванов взял Прокофия за потную лихорадочную руку и, заметив в нем совестливый
стыд за детское прошлое, поцеловал его в сухие огорченные губы.
— Будем вместе жить, Прош. Ты не волнуйся. Вот Копенкин стоит, скоро Гопнер с