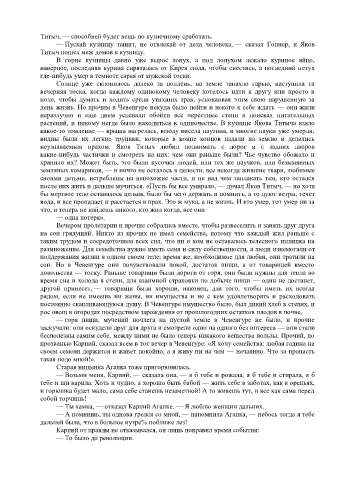Page 167 - Чевенгур
P. 167
Титыч, — способней будет вещь по кузнечному сработать.
— Пускай кузницу тащит, не отвлекай от дела человека, — сказал Гопнер, и Яков
Титыч пошел меж домов в кузницу.
В горне кузницы давно уже вырос лопух, а под лопухом лежало куриное яйцо,
наверное, последняя курица спряталась от Кирея сюда, чтобы снестись, а последний петух
где-нибудь умер в темноте сарая от мужской тоски.
Солнце уже склонилось далеко за полдень, на земле запахло гарью, наступила та
вечерняя тоска, когда каждому одинокому человеку хотелось идти к другу или просто в
поле, чтобы думать и ходить среди утихших трав, успокаивая этим свою нарушенную за
день жизнь. Но прочим в Чевенгуре некуда было пойти и некого к себе ждать — они жили
неразлучно и еще днем успевали обойти все окрестные степи в поисках питательных
растений, и никому негде было находиться в одиночестве. В кузнице Якова Титыча взяло
какое-то томление — крыша нагрелась, всюду висела паутина, и многие пауки уже умерли,
видны были их легкие трупики, которые в конце концов падали на землю и делались
неузнаваемым прахом. Яков Титыч любил поднимать с дорог и с задних дворов
какие-нибудь частички и смотреть на них: чем они раньше были? Чье чувство обожало и
хранило их? Может быть, это были кусочки людей, или тех же паучков, или безымянных
земляных комариков, — и ничто не осталось в целости, все некогда жившие твари, любимые
своими детьми, истреблены на непохожие части, и не над чем заплакать тем, кто остался
после них жить и дальше мучиться. «Пусть бы все умирало, — думал Яков Титыч, — но хотя
бы мертвое тело оставалось целым, было бы чего держать и помнить, а то дуют ветры, течет
вода, и все пропадает и расстается в прах. Это ж мука, а не жизнь. И кто умер, тот умер ни за
что, и теперь не найдешь никого, кто жил когда, все они
— одна потеря».
Вечером пролетарии и прочие собрались вместе, чтобы развеселить и занять друг друга
на сон грядущий. Никто из прочих не имел семейства, потому что каждый жил раньше с
таким трудом и сосредоточием всех сил, что ни в ком не оставалось телесного излишка на
размножение. Для семейства нужно иметь семя и силу собственности, а люди изнемогали от
поддержания жизни в одном своем теле; время же, необходимое для любви, они тратили на
сон. Но в Чевенгуре они почувствовали покой, достаток пищи, а от товарищей вместо
довольства — тоску. Раньше товарищи были дороги от горя, они были нужны для тепла во
время сна и холода в степи, для взаимной страховки по добыче пищи — один не достанет,
другой принесет, — товарищи были хороши, наконец, для того, чтобы иметь их всегда
рядом, если не имеешь ни жены, ни имущества и не с кем удовлетворять и расходовать
постоянно скапливающуюся душу. В Чевенгуре имущество было, был дикий хлеб в степях, и
рос овощ в огородах посредством зарождения от прошлогодних остатков плодов в почве,
— горя пищи, мучений ночлега на пустой земле в Чевенгуре не было, и прочие
заскучали: они оскудели друг для друга и смотрели один на одного без интереса — они стали
бесполезны самим себе, между ними не было теперь никакого вещества пользы. Прочий, по
прозванью Карпий, сказал всем в тот вечер в Чевенгуре: «Я хочу семейства: любая гадина на
своем семени держится и живет покойно, а я живу ни на чем — нечаянно. Что за пропасть
такая подо мной!».
Старая нищенка Агапка тоже пригорюнилась.
— Возьми меня, Карпий, — сказала она, — я б тебе и рожала, я б тебе и стирала, я б
тебе и щи варила. Хоть и чудно, а хорошо быть бабой — жить себе в заботах, как в орепьях,
и горюшка будет мало, сама себе станешь незаметной! А то живешь тут, и все как сама перед
собой торчишь!
— Ты хамка, — отказал Карпий Агапке. — Я люблю женщин дальних.
— А помнишь, ты однова грелся со мной, — напомнила Агапка, — небось тогда я тебе
дальней была, что в больное нутре% поближе лез!
Карпий от правды не отказывался, он лишь поправил время события:
— То было до революции.