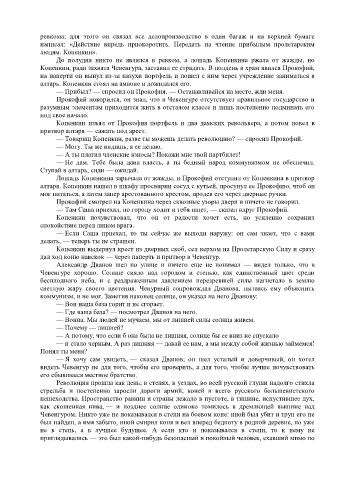Page 164 - Чевенгур
P. 164
ревкома; для этого он связал все делопроизводство в один багаж и на верхней бумаге
написал: «Действие впредь приокоротить. Передать на чтение прибылым пролетарским
людям. Копенкин».
До полудня никто не являлся в ревком, а лошадь Копенкина ржала от жажды, но
Копенкин, ради захвата Чевенгура, заставил ее страдать. В полдень в храм явился Прокофий,
на паперти он вынул из-за пазухи портфель и пошел с ним через учреждение заниматься в
алтарь. Копенкин стоял на амвоне и дожидался его.
— Прибыл? — спросил он Прокофия. — Останавливайся на месте, жди меня.
Прокофий покорился, он знал, что в Чевенгуре отсутствует правильное государство и
разумным элементам приходится жить в отсталом классе и лишь постепенно подминать его
под свое начало.
Копенкин изъял от Прокофия портфель и два дамских револьвера, а потом повел в
притвор алтаря — сажать под арест.
— Товарищ Копенкин, разве ты можешь делать революцию? — спросил Прокофий.
— Могу. Ты же видишь, я ее делаю.
— А ты платил членские взносы? Покажи мне твой партбилет!
— Не дам. Тебе была дана власть, а ты бедный народ коммунизмом не обеспечил.
Ступай в алтарь, сиди — ожидай.
Лошадь Копенкина зарычала от жажды, и Прокофий отступил от Копенкина в притвор
алтаря. Копенкин нашел в шкафу просвирни сосуд с кутьей, просунул ее Прокофию, чтоб он
мог питаться, а затем запер арестованного крестом, продев его через дверные ручки.
Прокофий смотрел на Копенкина через сквозные узоры двери и ничего не говорил.
— Там Саша приехал, по городу ходит и тебя ищет, — сказал вдруг Прокофий.
Копенкин почувствовал, что он от радости хочет есть, но усиленно сохранил
спокойствие перед лицом врага.
— Если Саша приехал, то ты сейчас же выходи наружу: он сам знает, что с вами
делать, — теперь ты не страшен.
Копенкин выдернул крест из дверных скоб, сел верхом на Пролетарскую Силу и сразу
дал ход коню навскок — через паперть и притвор в Чевенгур.
Александр Дванов шел по улице и ничего еще не понимал — видел только, что в
Чевенгуре хорошо. Солнце сияло над городом и степью, как единственный цвет среди
бесплодного неба, и с раздраженным давлением перезревшей силы нагнетало в землю
светлую жару своего цветения. Чепурный сопровождал Дванова, пытаясь ему объяснить
коммунизм, и не мог. Заметив наконец солнце, он указал на него Дванову:
— Вон наша база горит и не сгорает.
— Где ваша база? — посмотрел Дванов на него.
— Вонна. Мы людей не мучаем, мы от лишней силы солнца живем.
— Почему — лишней?
— А потому, что если б она была не лишняя, солнце бы ее вниз не спускало
— и стало черным. А раз лишняя — давай ее нам, а мы между собой жизнью займемся!
Понял ты меня?
— Я хочу сам увидеть, — сказал Дванов; он шел усталый и доверчивый, он хотел
видеть Чевенгур не для того, чтобы его проверить, а для того, чтобы лучше почувствовать
его сбывшееся местное братство.
Революция прошла как день; в степях, в уездах, во всей русской глуши надолго стихла
стрельба и постепенно заросли дороги армий, коней и всего русского большевистского
пешеходства. Пространство равнин и страны лежало в пустоте, в тишине, испустившее дух,
как скошенная нива, — и позднее солнце одиноко томилось в дремлющей вышине над
Чевенгуром. Никто уже не показывался в степи на боевом коне: иной был убит и труп его не
был найден, а имя забыто, иной смирил коня и вел вперед бедноту в родной деревне, но уже
не в степь, а в лучшее будущее. А если кто и показывался в степи, то к нему не
приглядывались — это был какой-нибудь безопасный и покойный человек, ехавший мимо по