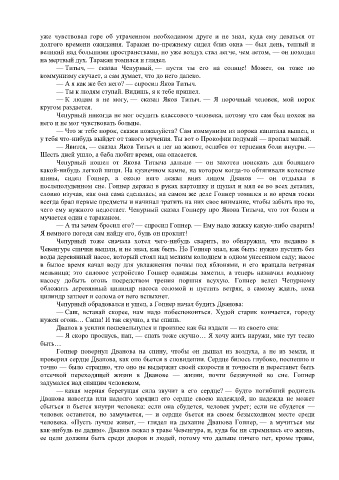Page 175 - Чевенгур
P. 175
уже чувствовал горе об утраченном необходимом друге и не знал, куда ему деваться от
долгого времени ожидания. Таракан по-прежнему сидел близ окна — был день, теплый и
великий над большими пространствами, но уже воздух стал легче, чем летом, — он походил
на мертвый дух. Таракан томился и глядел.
— Титыч, — сказал Чепурный, — пусти ты его на солнце! Может, он тоже по
коммунизму скучает, а сам думает, что до него далеко.
— А я как же без него? — спросил Яков Титыч.
— Ты к людям ступай. Видишь, я к тебе пришел.
— К людям я не могу, — сказал Яков Титыч. — Я порочный человек, мой порок
кругом раздается.
Чепурный никогда не мог осудить классового человека, потому что сам был похож на
него и не мог чувствовать больше.
— Что ж тебе порок, скажи пожалуйста? Сам коммунизм из порока капитала вышел, и
у тебя что-нибудь выйдет от такого мучения. Ты вот о Прокофии подумай — пропал малый.
— Явится, — сказал Яков Титыч и лег на живот, ослабев от терпения боли внутри. —
Шесть дней ушло, а баба любит время, она опасается.
Чепурный пошел от Якова Титыча дальше — он захотел поискать для болящего
какой-нибудь легкой пищи. На кузнечном камне, на котором когда-то обтягивали колесные
шины, сидел Гопнер, а около него лежал вниз лицом Дванов — он отдыхал в
послеполуденном сне. Гопнер держал в руках картошку и щупал и мял ее во всех деталях,
словно изучая, как она сама сделалась; на самом же деле Гопнер томился и во время тоски
всегда брал первые предметы и начинал тратить на них свое внимание, чтобы забыть про то,
чего ему нужного недостает. Чепурный сказал Гопнеру про Якова Титыча, что тот болен и
мучается один с тараканом.
— А ты зачем бросил его? — спросил Гопнер. — Ему надо жижку какую-либо сварить!
Я немного погодя сам найду его, будь он проклят!
Чепурный тоже сначала хотел чего-нибудь сварить, но обнаружил, что недавно в
Чевенгуре спички вышли, и не знал, как быть. Но Гопнер знал, как быть: нужно пустить без
воды деревянный насос, который стоял над мелким колодцем в одном унесенном саду; насос
в былое время качал воду для увлажнения почвы под яблонями, и его вращала ветряная
мельница; это силовое устройство Гопнер однажды заметил, а теперь назначил водяному
насосу добыть огонь посредством трения поршня всухую. Гопнер велел Чепурному
обложить деревянный цилиндр насоса соломой и пустить ветряк, а самому ждать, пока
цилиндр затлеет и солома от него вспыхнет.
Чепурный обрадовался и ушел, а Гопнер начал будить Дванова:
— Саш, вставай скорее, нам надо побеспокоиться. Худой старик кончается, городу
нужен огонь… Саша! И так скучно, а ты спишь.
Дванов в усилии пошевельнулся и произнес как бы издали — из своего сна:
— Я скоро проснусь, пап, — спать тоже скучно… Я хочу жить наружи, мне тут тесно
быть…
Гопнер повернул Дванова на спину, чтобы он дышал из воздуха, а не из земли, и
проверил сердце Дванова, как оно бьется в сновидении. Сердце билось глубоко, поспешно и
точно — было страшно, что оно не выдержит своей скорости и точности и перестанет быть
отсечкой переходящей жизни в Дванове — жизни, почти беззвучной во сне. Гопнер
задумался над спящим человеком,
— какая мерная берегущая сила звучит в его сердце? — будто погибший родитель
Дванова навсегда или надолго зарядил его сердце своею надеждой, но надежда не может
сбыться и бьется внутри человека: если она сбудется, человек умрет; если не сбудется —
человек останется, но замучается, — и сердце бьется на своем безысходном месте среди
человека. «Пусть лучше живет, — глядел на дыхание Дванова Гопнер, — а мучиться мы
как-нибудь не дадим». Дванов лежал в траве Чевенгура, и, куда бы ни стремилась его жизнь,
ее цели должны быть среди дворов и людей, потому что дальше ничего нет, кроме травы,