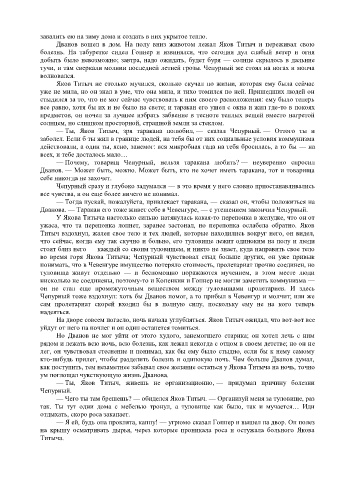Page 177 - Чевенгур
P. 177
завалить ею на зиму дома и создать в них укрытое тепло.
Дванов вошел в дом. На полу вниз животом лежал Яков Титыч и переживал свою
болезнь. На табуретке сидел Гопнер и извинялся, что сегодня дул слабый ветер и огня
добыть было невозможно; завтра, надо ожидать, будет буря — солнце скрылось в дальние
тучи, и там сверкали молнии последней летней грозы. Чепурный же стоял на ногах и молча
волновался.
Яков Титыч не столько мучился, сколько скучал по жизни, которая ему была сейчас
уже не мила, но он знал в уме, что она мила, и тихо томился по ней. Пришедших людей он
стыдился за то, что не мог сейчас чувствовать к ним своего расположения: ему было теперь
все равно, хотя бы их и не было на свете; и таракан его ушел с окна и жил где-то в покоях
предметов, он почел за лучшее избрать забвение в тесноте теплых вещей вместо нагретой
солнцем, но слишком просторной, страшной земли за стеклом.
— Ты, Яков Титыч, зря таракана полюбил, — сказал Чепурный. — Оттого ты и
заболел. Если б ты жил в границе людей, на тебя бы от них социальные условия коммунизма
действовали, а один ты, ясно, занемог: вся микробная гада на тебя бросилась, а то бы — на
всех, и тебе досталось мало…
— Почему, товарищ Чепурный, нельзя таракана любить? — неуверенно спросил
Дванов. — Может быть, можно. Может быть, кто не хочет иметь таракана, тот и товарища
себе никогда не захочет.
Чепурный сразу и глубоко задумался — в это время у него словно приостанавливались
все чувства, и он еще более ничего не понимал.
— Тогда пускай, пожалуйста, привлекает таракана, — сказал он, чтобы положиться на
Дванова. — Таракан его тоже живет себе в Чевенгуре, — с утешением закончил Чепурный.
У Якова Титыча настолько сильно натянулась какая-то перепонка в желудке, что он от
ужаса, что та перепонка лопнет, заранее застонал, но перепонка ослабела обратно. Яков
Титыч вздохнул, жалея свое тело и тех людей, которые находились вокруг него, он видел,
что сейчас, когда ему так скучно и больно, его туловище лежит одиноким на полу и люди
стоят близ него — каждый со своим туловищем, и никто не знает, куда направить свое тело
во время горя Якова Титыча; Чепурный чувствовал стыд больше других, он уже привык
понимать, что в Чевенгуре имущество потеряло стоимость, пролетариат прочно соединен, но
туловища живут отдельно — и беспомощно поражаются мучением, в этом месте люди
нисколько не соединены, поэтому-то и Копенкин и Гопнер не могли заметить коммунизма —
он не стал еще промежуточным веществом между туловищами пролетариев. И здесь
Чепурный тоже вздохнул: хоть бы Дванов помог, а то прибыл в Чевенгур и молчит; или же
сам пролетариат скорей входил бы в полную силу, поскольку ему не на кого теперь
надеяться.
На дворе совсем погасло, ночь начала углубляться. Яков Титыч ожидал, что вот-вот все
уйдут от него на ночлег и он один останется томиться.
Но Дванов не мог уйти от этого худого, занемогшего старика; он хотел лечь с ним
рядом и лежать всю ночь, всю болезнь, как лежал некогда с отцом в своем детстве; но он не
лег, он чувствовал стеснение и понимал, как бы ему было стыдно, если бы к нему самому
кто-нибудь прилег, чтобы разделить болезнь и одинокую ночь. Чем больше Дванов думал,
как поступить, тем незаметнее забывал свое желание остаться у Якова Титыча на ночь, точно
ум поглощал чувствующую жизнь Дванова.
— Ты, Яков Титыч, живешь не организационно, — придумал причину болезни
Чепурный.
— Чего ты там брешешь? — обиделся Яков Титыч. — Организуй меня за туловище, раз
так. Ты тут одни дома с мебелью тронул, а туловище как было, так и мучается… Иди
отдыхать, скоро роса закапает.
— Я ей, будь она проклята, капну! — угрюмо сказал Гопнер и вышел на двор. Он полез
на крышу осматривать дырья, через которые проникала роса и остужала больного Якова
Титыча.