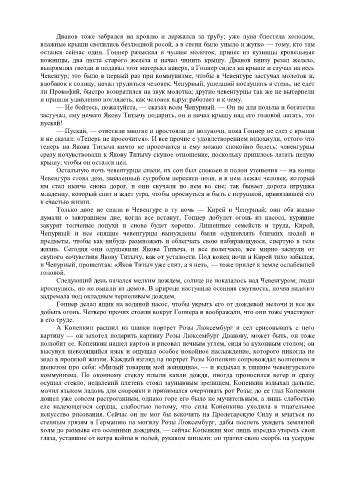Page 178 - Чевенгур
P. 178
Дванов тоже забрался на кровлю и держался за трубу; уже луна блестела холодом,
влажные крыши светились безлюдной росой, а в степи было уныло и жутко — тому, кто там
остался сейчас один. Гопнер разыскал в чулане молоток, принес из кузницы кровельные
ножницы, два листа старого железа и начал чинить крышу. Дванов внизу резал железо,
выпрямлял гвозди и подавал этот матерьял наверх, а Гопнер сидел на крыше и стучал на весь
Чевенгур; это было в первый раз при коммунизме, чтобы в Чевенгуре застучал молоток и,
вдобавок к солнцу, начал трудиться человек. Чепурный, ушедший послушать в степь, не едет
ли Прокофий, быстро возвратился на звук молотка; другие чевенгурцы так же не вытерпели
и пришли удивленно поглядеть, как человек вдруг работает и к чему.
— Не бойтесь, пожалуйста, — сказал всем Чепурный. — Он не для пользы и богатства
застучал, ему нечего Якову Титычу подарить, он и начал крышу над его головой латать, это
пускай!
— Пускай, — ответили многие и простояли до полуночи, пока Гопнер не слез с крыши
и не сказал: «Теперь не просочится». И все прочие с удовлетворением вздохнули, оттого что
теперь на Якова Титыча ничто не просочится и ему можно спокойно болеть: чевенгурцы
сразу почувствовали к Якову Титычу скупое отношение, поскольку пришлось латать целую
крышу, чтобы он остался цел.
Остальную ночь чевенгурцы спали, их сон был спокоен и полон утешения — на конце
Чевенгура стоял дом, заваленный сугробом перекати-поля, и в нем лежал человек, который
им стал нынче снова дорог, и они скучали по нем во сне; так бывает дорога игрушка
младенцу, который спит и ждет утра, чтобы проснуться и быть с игрушкой, привязавшей его
к счастью жизни.
Только двое не спали в Чевенгуре в ту ночь — Кирей и Чепурный; они оба жадно
думали о завтрашнем дне, когда все встанут, Гопнер добудет огонь из насоса, курящие
закурят толченые лопухи и снова будет хорошо. Лишенные семейств и труда, Кирей,
Чепурный и все спящие чевенгурцы вынуждены были одушевлять близких людей и
предметы, чтобы как-нибудь размножать и облегчать свою набирающуюся, спертую в теле
жизнь. Сегодня они одушевили Якова Титыча, и все полегчало, все мирно заснули от
скупого сочувствия Якову Титычу, как от усталости. Под конец ночи и Кирей тихо забылся,
и Чепурный, прошептав: «Яков Титыч уже спит, а я нет», — тоже прилег к земле ослабевшей
головой.
Следующий день начался мелким дождем, солнце не показалось над Чевенгуром; люди
проснулись, но не вышли из домов. В природе наступила осенняя смутность, почва надолго
задремала под окладным терпеливым дождем.
Гопнер делал ящик на водяной насос, чтобы укрыть его от дождевой мелочи и все же
добыть огонь. Четверо прочих стояли вокруг Гопнера и воображали, что они тоже участвуют
в его труде.
А Копенкин расшил из шапки портрет Розы Люксембург и сел срисовывать с него
картину — он захотел подарить картину Розы Люксембург Дванову, может быть, он тоже
полюбит ее. Копенкин нашел картон и рисовал печным углем, сидя за кухонным столом; он
высунул шевелящийся язык и ощущал особое покойное наслаждение, которого никогда не
знал в прошлой жизни. Каждый взгляд на портрет Розы Копенкин сопровождал волнением и
шепотом про себя: «Милый товарищ мой женщина», — и вздыхал в тишине чевенгурского
коммунизма. По оконному стеклу плыли капли дождя, иногда проносился ветер и сразу
осушал стекло, недалекий плетень стоял заунывным зрелищем, Копенкин вздыхал дальше,
мочил языком ладонь для сноровки и принимался очерчивать рот Розы; до ее глаз Копенкин
дошел уже совсем растроганным, однако горе его было не мучительным, а лишь слабостью
еле надеющегося сердца, слабостью потому, что сила Копенкина уходила в тщательное
искусство рисования. Сейчас он не мог бы вскочить на Пролетарскую Силу и мчаться по
степным грязям в Германию на могилу Розы Люксембург, дабы поспеть увидеть земляной
холм до размыва его осенними дождями, — сейчас Копенкин мог лишь изредка утереть свои
глаза, уставшие от ветра войны и полей, рукавом шинели: он тратил свою скорбь на усердие