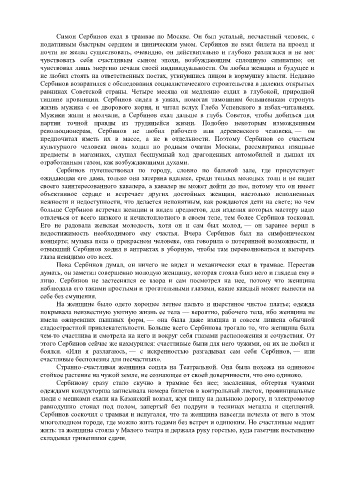Page 183 - Чевенгур
P. 183
Симон Сербинов ехал в трамвае по Москве. Он был усталый, несчастный человек, с
податливым быстрым сердцем и циническим умом. Сербинов не взял билета на проезд и
почти не желал существовать, очевидно, он действительно и глубоко разлагался и не мог
чувствовать себя счастливым сыном эпохи, возбуждающим сплошную симпатию; он
чувствовал лишь энергию печали своей индивидуальности. Он любил женщин и будущее и
не любил стоять на ответственных постах, уткнувшись лицом в кормушку власти. Недавно
Сербинов возвратился с обследования социалистического строительства в далеких открытых
равнинах Советской страны. Четыре месяца он медленно ездил в глубокой, природной
тишине провинции. Сербинов сидел в уиках, помогая тамошним большевикам стронуть
жизнь мужика с ее дворового корня, и читал вслух Глеба Успенского в избах-читальнях.
Мужики жили и молчали, а Сербинов ехал дальше в глубь Советов, чтобы добиться для
партии точной правды из трудящейся жизни. Подобно некоторым изможденным
революционерам, Сербинов не любил рабочего или деревенского человека, — он
предпочитал иметь их в массе, а не в отдельности. Поэтому Сербинов со счастьем
культурного человека вновь ходил по родным очагам Москвы, рассматривал изящные
предметы в магазинах, слушал бесшумный ход драгоценных автомобилей и дышал их
отработанным газом, как возбуждающими духами.
Сербинов путешествовал по городу, словно по бальной зале, где присутствует
ожидающая его дама, только она затеряна вдалеке, среди теплых молодых толп и не видит
своего заинтересованного кавалера, а кавалер не может дойти до нее, потому что он имеет
объективное сердце и встречает других достойных женщин, настолько исполненных
нежности и недоступности, что делается непонятным, как рождаются дети на свете; но чем
больше Сербинов встречал женщин и видел предметов, для изделия которых мастеру надо
отвлечься от всего низкого и нечистоплотного в своем теле, тем более Сербинов тосковал.
Его не радовала женская молодость, хотя он и сам был молод, — он заранее верил в
недостижимость необходимого ему счастья. Вчера Сербинов был на симфоническом
концерте; музыка пела о прекрасном человеке, она говорила о потерянной возможности, и
отвыкший Сербинов ходил в антрактах в уборную, чтобы там переволноваться и вытереть
глаза невидимо ото всех.
Пока Сербинов думал, он ничего не видел и механически ехал в трамвае. Перестав
думать, он заметил совершенно молодую женщину, которая стояла близ него и глядела ему в
лицо. Сербинов не застеснялся ее взора и сам посмотрел на нее, потому что женщина
наблюдала его такими простыми и трогательными глазами, какие каждый может вынести на
себе без смущения.
На женщине было одето хорошее летнее пальто и шерстяное чистое платье; одежда
покрывала неизвестную уютную жизнь ее тела — вероятно, рабочего тела, ибо женщина не
имела ожиревших пышных форм, — она была даже изящна и совсем лишена обычной
сладострастной привлекательности. Больше всего Сербинова трогало то, что женщина была
чем-то счастлива и смотрела на него и вокруг себя глазами расположения и сочувствия. От
этого Сербинов сейчас же нахмурился: счастливые были для него чужими, он их не любил и
боялся. «Или я разлагаюсь, — с искренностью разгадывал сам себя Сербинов, — или
счастливые бесполезны для несчастных».
Странно-счастливая женщина сошла на Театральной. Она была похожа на одинокое
стойкое растение на чужой земле, не сознающее от своей доверчивости, что оно одиноко.
Сербинову сразу стало скучно в трамвае без нее; засаленная, обтертая чужими
одеждами кондукторша записывала номера билетов в контрольный листок, провинциальные
люди с мешками ехали на Казанский вокзал, жуя пищу на дальнюю дорогу, и электромотор
равнодушно стонал под полом, запертый без подруги в теснинах металла и сцеплений.
Сербинов соскочил с трамвая и испугался, что та женщина навсегда исчезла от него в этом
многолюдном городе, где можно жить годами без встреч и одиноким. Но счастливые медлят
жить: та женщина стояла у Малого театра и держала руку горстью, куда газетчик постепенно
складывал гривенники сдачи.