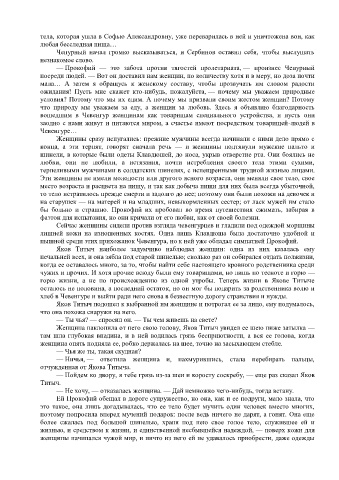Page 200 - Чевенгур
P. 200
тела, которая ушла в Софью Александровну, уже переварилась в ней и уничтожена вон, как
любая бесследная пища…
Чепурный начал громко высказываться, и Сербинов оставил себя, чтобы выслушать
незнакомое слово.
— Прокофий — это забота против тягостей пролетариата, — произнес Чепурный
посреди людей. — Вот он доставил нам женщин, по количеству хотя и в меру, но доза почти
мала… А затем я обращусь к женскому составу, чтобы прозвучать им словом радости
ожидания! Пусть мне скажет кто-нибудь, пожалуйста, — почему мы уважаем природные
условия? Потому что мы их едим. А почему мы призвали своим жестом женщин? Потому
что природу мы уважаем за еду, а женщин за любовь. Здесь я объявляю благодарность
вошедшим в Чевенгур женщинам как товарищам специального устройства, и пусть они
заодно с нами живут и питаются миром, а счастье имеют посредством товарищей-людей в
Чевенгуре…
Женщины сразу испугались: прежние мужчины всегда начинали с ними дело прямо с
конца, а эти терпят, говорят сначала речь — и женщины подтянули мужские пальто и
шинели, в которые были одеты Клавдюшей, до носа, укрыв отверстие рта. Они боялись не
любви, они не любили, а истязания, почти истребления своего тела этими сухими,
терпеливыми мужчинами в солдатских шинелях, с испещренными трудной жизнью лицами.
Эти женщины не имели молодости или другого ясного возраста, они меняли свое тело, свое
место возраста и расцвета на пищу, и так как добыча пищи для них была всегда убыточной,
то тело истратилось прежде смерти и задолго до нее; поэтому они были похожи на девочек и
на старушек — на матерей и на младших, невыкормленных сестер; от ласк мужей им стало
бы больно и страшно. Прокофий их пробовал во время путешествия сжимать, забирая в
фаэтон для испытания, но они кричали от его любви, как от своей болезни.
Сейчас женщины сидели против взгляда чевенгурцев и гладили под одеждой морщины
лишней кожи на изношенных костях. Одна лишь Клавдюша была достаточно удобной и
пышной среди этих прихожанок Чевенгура, но к ней уже обладал симпатией Прокофий.
Яков Титыч наиболее задумчиво наблюдал женщин: одна из них казалась ему
печальней всех, и она зябла под старой шинелью; сколько раз он собирался отдать полжизни,
когда ее оставалось много, за то, чтобы найти себе настоящего кровного родственника среди
чужих и прочих. И хотя прочие всюду были ему товарищами, но лишь по тесноте и горю —
горю жизни, а не по происхождению из одной утробы. Теперь жизни в Якове Титыче
осталось не половина, а последний остаток, но он мог бы подарить за родственника волю и
хлеб в Чевенгуре и выйти ради него снова в безвестную дорогу странствия и нужды.
Яков Титыч подошел к выбранной им женщине и потрогал ее за лицо, ему подумалось,
что она похожа снаружи на него.
— Ты чья? — спросил он. — Ты чем живешь на свете?
Женщина наклонила от него свою голову, Яков Титыч увидел ее шею ниже затылка —
там шла глубокая впадина, и в ней водилась грязь бесприютности, а вся ее голова, когда
женщина опять подняла ее, робко держалась на шее, точно на засыхающем стебле.
— Чья же ты, такая скудная?
— Ничья, — ответила женщина и, нахмурившись, стала перебирать пальцы,
отчужденная от Якова Титыча.
— Пойдем ко двору, я тебе грязь из-за шеи и коросту соскребу, — еще раз сказал Яков
Титыч.
— Не хочу, — отказалась женщина. — Дай немножко чего-нибудь, тогда встану.
Ей Прокофий обещал в дороге супружество, но она, как и ее подруги, мало знала, что
это такое, она лишь догадывалась, что ее тело будет мучить один человек вместо многих,
поэтому попросила вперед мучений подарок: после ведь ничего не дарят, а гонят. Она еще
более сжалась под большой шинелью, храня под нею свое голое тело, служившее ей и
жизнью, и средством к жизни, и единственной несбывшейся надеждой, — поверх кожи для
женщины начинался чужой мир, и ничто из него ей не удавалось приобрести, даже одежды