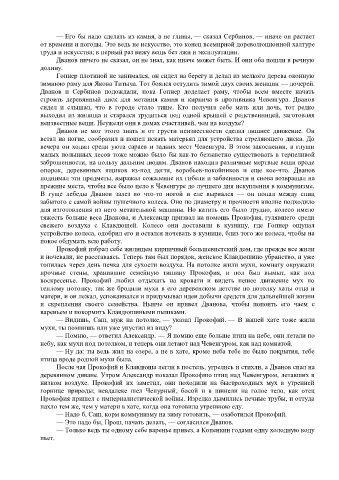Page 205 - Чевенгур
P. 205
— Его бы надо сделать из камня, а не глины, — сказал Сербинов, — иначе он растает
от времени и погоды. Это ведь не искусство, это конец всемирной дореволюционной халтуре
труда и искусства; в первый раз вижу вещь без лжи и эксплуатации.
Дванов ничего не сказал, он не знал, как иначе может быть. И они оба пошли в речную
долину.
Гопнер плотиной не занимался, он сидел на берегу и делал из мелкого дерева оконную
зимнюю раму для Якова Титыча. Тот боялся остудить зимой двух своих женщин — дочерей.
Дванов и Сербинов подождали, пока Гопнер доделает раму, чтобы всем вместе начать
строить деревянный диск для метания камня и кирпича в противника Чевенгура. Дванов
сидел и слышал, что в городе стало тише. Кто получил себе мать или дочь, тот редко
выходил из жилища и старался трудиться под одной крышей с родственницей, заготовляя
неизвестные вещи. Неужели они в домах счастливей, чем на воздухе?
Дванов не мог этого знать и от грусти неизвестности сделал лишнее движение. Он
встал на ногие, сообразил и пошел искать матерьял для устройства стреляющего диска. До
вечера он ходил среди уюта сараев и задних мест Чевенгура. В этом закоснении, в глуши
малых полынных лесов тоже можно было бы как-то беззаветно существовать в терпеливой
заброшенности, на пользу дальним людям. Дванов находил различные мертвые вещи вроде
опорок, деревянных ящиков из-под дегтя, воробьев-покойников и еще кое-что. Дванов
поднимал эти предметы, выражал сожаление их гибели и забвенности и снова возвращал на
прежние места, чтобы все было цело в Чевенгуре до лучшего дня искупления в коммунизме.
В гуще лебеды Дванов залез во что-то ногой и еле вырвался — он попал между спиц
забытого с самой войны пушечного колеса. Оно по диаметру и прочности вполне подходило
для изготовления из него метательной машины. Но катить его было трудно, колесо имело
тяжесть больше веса Дванова, и Александр призвал на помощь Прокофия, гулявшего среди
свежего воздуха с Клавдюшей. Колесо они доставили в кузницу, где Гопнер ощупал
устройство колеса, одобрил его и остался ночевать в кузнице, близ того же колеса, чтобы на
покое обдумать всю работу.
Прокофий избрал себе жилищем кирпичный большевистский дом, где прежде все жили
и ночевали, не расставаясь. Теперь там был порядок, женское Клавдюшино убранство, и уже
топилась через день печка для сухости воздуха. На потолке жили мухи, комнату окружали
прочные стены, хранившие семейную тишину Прокофия, и пол был вымыт, как под
воскресенье. Прокофий любил отдыхать на кровати и видеть пешее движение мух по
теплому потолку, так же бродили мухи в его деревенском детстве по потолку хаты отца и
матери, и он лежал, успокаивался и придумывал идеи добычи средств для дальнейшей жизни
и скрепления своего семейства. Нынче он привел Дванова, чтобы попоить его чаем с
вареньем и покормить Клавдюшиными пышками.
— Видишь, Саш, муж на потолке, — указал Прокофий. — В нашей хате тоже жили
мухи, ты помнишь или уже упустил из виду?
— Помню, — ответил Александр. — Я помню еще больше птиц на небе, они летали по
небу, как мухи под потолком, и теперь они летают над Чевенгуром, как над комнатой.
— Ну да: ты ведь жил на озере, а не в хате, кроме неба тебе не было покрытия, тебе
птица вроде родной мухи была.
После чая Прокофий и Клавдюша легли в постель, угрелись и стихли, а Дванов спал на
деревянном диване. Утром Александр показал Прокофию птиц над Чевенгуром, летавших в
низком воздухе. Прокофий их заметил, они походили на быстроходных мух в утренней
горнице природы; невдалеке шел Чепурный, босой и в шинели на голое тело, как отец
Прокофия пришел с империалистической войны. Изредка дымились печные трубы, и оттуда
пахло тем же, чем у матери в хате, когда она готовила утреннюю еду.
— Надо б, Саш, корм коммунизму на зиму готовить, — озаботился Прокофий.
— Это надо бы, Прош, начать делать, — согласился Дванов.
— Только ведь ты одному себе варенье привез, а Копенкин годами одну холодную воду
пьет.