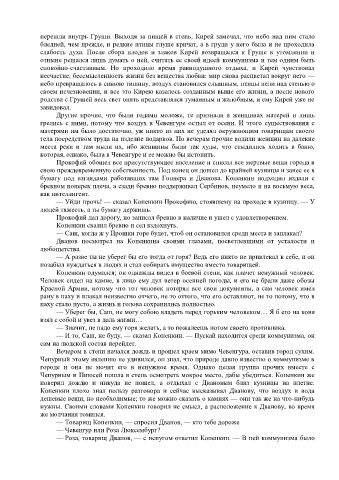Page 207 - Чевенгур
P. 207
перешли внутрь Груши. Выходя за пищей в степь, Кирей замечал, что небо над ним стало
бледней, чем прежде, и редкие птицы глуше кричат, а в груди у него была и не проходила
слабость духа. После сбора плодов и злаков Кирей возвращался к Груше в утомлении и
отныне решался лишь думать о ней, считать ее своей идеей коммунизма и тем одним быть
спокойно-счастливым. Но проходило время равнодушного отдыха, и Кирей чувствовал
несчастие, бессмысленность жизни без вещества любви: мир снова расцветал вокруг него —
небо превращалось в синюю тишину, воздух становился слышным, птицы пели над степью о
своем исчезновении, и все это Кирею казалось созданным выше его жизни, а после нового
родства с Грушей весь свет опять представлялся туманным и жалобным, и ему Кирей уже не
завидовал.
Другие прочие, что были годами моложе, те признали в женщинах матерей и лишь
грелись с ними, потому что воздух в Чевенгуре остыл от осени. И этого существования с
матерями им было достаточно, уж никто из них не уделял окружающим товарищам своего
тела посредством труда на изделие подарков. По вечерам прочие водили женщин на далекие
места реки и там мыли их, ибо женщины были так худы, что стыдились ходить в баню,
которая, однако, была в Чевенгуре и ее можно бы истопить.
Прокофий обошел все присутствующее население и списал все мертвые вещи города в
свою преждевременную собственность. Под конец он дошел до крайней кузницы и занес ее в
бумагу под взглядами работавших там Гопнера и Дванова. Копенкин подходил издали с
бревном поперек плеча, а сзади бревно поддерживал Сербинов, неумело и на восьмую веса,
как интеллигент.
— Уйди прочь! — сказал Копенкин Прокофию, стоявшему на проходе в кузницу. — У
людей тяжесть, а ты бумагу держишь.
Прокофий дал дорогу, но записал бревно в наличие и ушел с удовлетворением.
Копенкин свалил бревно и сел вздохнуть.
— Саш, когда ж у Прошки горе будет, чтоб он остановился среди места и заплакал?
Дванов посмотрел на Копенкина своими глазами, посветлевшими от усталости и
любопытства.
— А разве ты не уберег бы его тогда от горя? Ведь его никто не привлекал к себе, и он
позабыл нуждаться в людях и стал собирать имущество вместо товарищей.
Копенкин одумался; он однажды видел в боевой степи, как плачет ненужный человек.
Человек сидел на камне, в лицо ему дул ветер осенней погоды, и его не брали даже обозы
Красной Армии, потому что тот человек потерял все свои документы, а сам человек имел
рану в паху и плакал неизвестно отчего, не то оттого, что его оставляют, не то потому, что в
паху стало пусто, а жизнь и голова сохранились полностью.
— Уберег бы, Саш, не могу собою владеть перед горьким человеком… Я б его на коня
взял с собой и увез в даль жизни…
— Значит, не надо ему горя желать, а то пожалеешь потом своего противника.
— И то, Саш, не буду, — сказал Копенкин. — Пускай находится среди коммунизма, он
сам на людской состав перейдет.
Вечером в степи начался дождь и прошел краем мимо Чевенгура, оставив город сухим.
Чепурный этому явлению не удивился, он знал, что природе давно известно о коммунизме в
городе и она не мочит его в ненужное время. Однако целая группа прочих вместе с
Чепурным и Пиюсей пошла в степь осмотреть мокрое место, дабы убедиться. Копенкин же
поверил дождю и никуда не пошел, а отдыхал с Двановым близ кузницы на плетне.
Копенкин плохо знал пользу разговора и сейчас высказывал Дванову, что воздух и вода
дешевые вещи, но необходимые; то же можно сказать о камнях — они так же на что-нибудь
нужны. Своими словами Копенкин говорил не смысл, а расположение к Дванову, во время
же молчания томился.
— Товарищ Копенкин, — спросил Дванов, — кто тебе дороже
— Чевенгур или Роза Люксембург?
— Роза, товарищ Дванов, — с испугом ответил Копенкин. — В ней коммунизма было