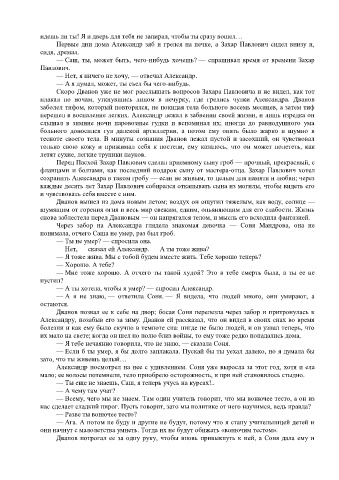Page 38 - Чевенгур
P. 38
идешь ли ты! Я и дверь для тебя не запирал, чтобы ты сразу вошел…
Первые дни дома Александр зяб и грелся на печке, а Захар Павлович сидел внизу и,
сидя, дремал.
— Саш, ты, может быть, чего-нибудь хочешь? — спрашивал время от времени Захар
Павлович.
— Нет, я ничего не хочу, — отвечал Александр.
— А я думал, может, ты съел бы чего-нибудь.
Скоро Дванов уже не мог расслышать вопросов Захара Павловича и не видел, как тот
плакал по ночам, уткнувшись лицом в печурку, где грелись чулки Александра. Дванов
заболел тифом, который повторялся, не покидая тела больного восемь месяцев, а затем тиф
перешел в воспаление легких. Александр лежал в забвении своей жизни, и лишь изредка он
слышал в зимние ночи паровозные гудки и вспоминал их; иногда до равнодушного ума
больного доносился гул далекой артиллерии, а потом ему опять было жарко и шумно в
тесноте своего тела. В минуты сознания Дванов лежал пустой и засохший, он чувствовал
только свою кожу и прижимал себя к постели, ему казалось, что он может полететь, как
летят сухие, легкие трупики пауков.
Перед Пасхой Захар Павлович сделал приемному сыну гроб — прочный, прекрасный, с
фланцами и болтами, как последний подарок сыну от мастера-отца. Захар Павлович хотел
сохранить Александра в таком гробу — если не живым, то целым для памяти и любви; через
каждые десять лет Захар Павлович собирался откапывать сына из могилы, чтобы видеть его
и чувствовать себя вместе с ним.
Дванов вышел из дома новым летом; воздух он ощутил тяжелым, как воду, солнце —
шумящим от горения огня и весь мир свежим, едким, опьяняющим для его слабости. Жизнь
снова заблестела перед Двановым — он напрягался телом, и мысль его всходила фантазией.
Через забор на Александра глядела знакомая девочка — Соня Мандрова, она не
понимала, отчего Саша не умер, раз был гроб.
— Ты не умер? — спросила она.
— Нет, — сказал ей Александр. — А ты тоже жива?
— Я тоже жива. Мы с тобой будем вместе жить. Тебе хорошо теперь?
— Хорошо. А тебе?
— Мне тоже хорошо. А отчего ты такой худой? Это в тебе смерть была, а ты ее не
пустил?
— А ты хотела, чтобы я умер? — спросил Александр.
— А я не знаю, — ответила Соня. — Я видела, что людей много, они умирают, а
остаются.
Дванов позвал ее к себе на двор; босая Соня перелезла через забор и притронулась к
Александру, позабыв его за зиму. Дванов ей рассказал, что он видел в своих снах во время
болезни и как ему было скучно в темноте сна: нигде не было людей, и он узнал теперь, что
их мало на свете; когда он шел по полю близ войны, то ему тоже редко попадались дома.
— Я тебе нечаянно говорила, что не знаю, — сказала Соня.
— Если б ты умер, я бы долго заплакала. Пускай бы ты уехал далеко, но я думала бы
зато, что ты живешь целый…
Александр посмотрел на нее с удивлением. Соня уже выросла за этот год, хотя и ела
мало; ее волосы потемнели, тело приобрело осторожность, и при ней становилось стыдно.
— Ты еще не знаешь, Саш, я теперь учусь на курсах!..
— А чему там учат?
— Всему, чего мы не знаем. Там один учитель говорит, что мы вонючее тесто, а он из
нас сделает сладкий пирог. Пусть говорит, зато мы политике от него научимся, ведь правда?
— Разве ты вонючее тесто?
— Ага. А потом не буду и другие не будут, потому что я стану учительницей детей и
они начнут с малолетства умнеть. Тогда их не будут обижать «вонючим тестом».
Дванов потрогал ее за одну руку, чтобы вновь привыкнуть к ней, а Соня дала ему и