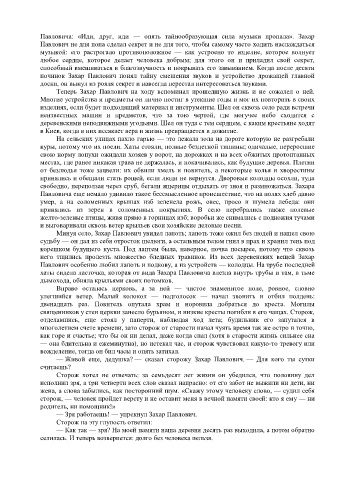Page 5 - Чевенгур
P. 5
Павловича: «Иди, друг, иди — опять тайнообразующая сила музыки пропала». Захар
Павлович не для попа сделал секрет и не для того, чтобы самому часто ходить наслаждаться
музыкой: его растрогало противоположное — как устроено то изделие, которое волнует
любое сердце, которое делает человека добрым; для этого он и приладил свой секрет,
способный вмешиваться в благозвучность и покрывать его завыванием. Когда после десяти
починок Захар Павлович понял тайну смешения звуков и устройство дрожащей главной
доски, он вынул из рояля секрет и навсегда перестал интересоваться звуками.
Теперь Захар Павлович на ходу вспоминал прошедшую жизнь и не сожалел о ней.
Многие устройства и предметы он лично постиг в утекшие годы и мог их повторить в своих
изделиях, если будет подходящий материал и инструменты. Шел он сквозь село ради встречи
неизвестных машин и предметов, что за тою чертой, где могучее небо сходится с
деревенскими неподвижными угодьями. Шел он туда с тем сердцем, с каким крестьяне ходят
в Киев, когда в них иссякает вера и жизнь превращается в дожитие.
На сельских улицах пахло гарью — это лежала зола на дороге которую не разгребали
куры, потому что их поели. Хаты стояли, полные бездетной тишины; одичалые, переросшие
свою норму лопухи ожидали хозяев у ворот, на дорожках и на всех обжитых протоптанных
местах, где ранее никакая трава не держалась, и покачивались, как будущие деревья. Плетни
от безлюдья тоже зацвели: их обвили хмель и повитель, а некоторые колья и хворостины
принялись и обещали стать рощей, если люди не вернутся. Дворовые колодцы осохли, туда
свободно, переползая через сруб, бегали ящерицы отдыхать от зноя и размножаться. Захара
Павловича еще немало удивило такое бессмысленное происшествие, что на полях хлеб давно
умер, а на соломенных крышах изб зеленела рожь, овес, просо и шумела лебеда: они
принялись из зерен в соломенных покрытиях. В село перебрались также полевые
желто-зеленые птицы, живя прямо в горницах изб; воробьи же снимались с подножия тучами
и выговаривали сквозь ветер крыльев свои хозяйские деловые песни.
Минуя село, Захар Павлович увидел лапоть; лапоть тоже ожил без людей и нашел свою
судьбу — он дал из себя отросток шелюги, а остальным телом гнил в прах и хранил тень под
корешком будущего куста. Под лаптем была, наверное, почва посырее, потому что сквозь
него тщились пролезть множество бледных травинок. Из всех деревенских вещей Захар
Павлович особенно любил лапоть и подкову, а из устройств — колодцы. На трубе последней
хаты сидела ласточка, которая от вида Захара Павловича влезла внутрь трубы и там, в тьме
дымохода, обняла крыльями своих потомков.
Вправо осталась церковь, а за ней — чистое знаменитое поле, ровное, словно
улегшийся ветер. Малый колокол — подголосок — начал звонить и отбил полдень:
двенадцать раз. Повитель опутала храм и норовила добраться до креста. Могилы
священников у стен церкви занесло бурьяном, и низкие кресты погибли в его чащах. Сторож,
отделавшись, еще стоял у паперти, наблюдая ход лета; будильник его запутался в
многолетнем счете времени, зато сторож от старости начал чуять время так же остро и точно,
как горе и счастье; что бы он ни делал, даже когда спал (хотя в старости жизнь сильнее сна
— она бдительна и ежеминутна), но истекал час, и сторож чувствовал какую-то тревогу или
вожделение, тогда он бил часы и опять затихал.
— Живой еще, дедушка? — сказал сторожу Захар Павлович. — Для кого ты сутки
считаешь?
Сторож хотел не отвечать: за семьдесят лет жизни он убедился, что половину дел
исполнил зря, а три четверти всех слов сказал напрасно: от его забот не выжили ни дети, ни
жена, а слова забылись, как посторонний шум. «Скажу этому человеку слово, — судил себя
сторож, — человек пройдет версту и не оставит меня в вечной памяти своей: кто я ему — ни
родитель, ни помощник!»
— Зря работаешь! — упрекнул Захар Павлович.
Сторож на эту глупость ответил:
— Как так — зря? На моей памяти наша деревня десять раз выходила, а потом обратно
селилась. И теперь возвернется: долго без человека нельзя.