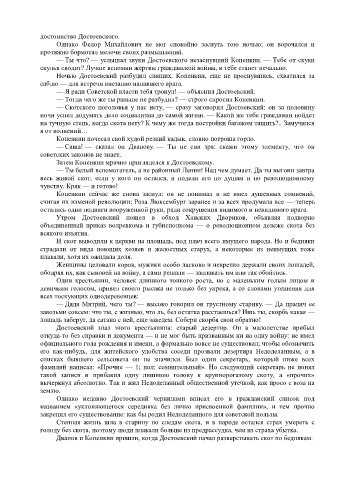Page 62 - Чевенгур
P. 62
достоинство Достоевского.
Однако Федор Михайлович не мог спокойно заснуть тою ночью; он ворочался и
протяжно бормотал мелочи своих размышлений.
— Ты что? — услышал звуки Достоевского незаснувший Копенкин. — Тебе от скуки
скулья сводит? Лучше вспомни жертвы гражданской войны, и тебе станет печально.
Ночью Достоевский разбудил спящих. Копенкин, еще не проснувшись, схватился за
саблю — для встречи внезапно напавшего врага.
— Я ради Советской власти тебя тронул! — объяснил Достоевский.
— Тогда чего же ты раньше не разбудил? — строго спросил Копенкин.
— Скотского поголовья у нас нету, — сразу заговорил Достоевский: он за половину
ночи успел додумать дело социализма до самой жизни. — Какой же тебе гражданин пойдет
на тучную степь, когда скота нету? К чему же тогда постройки багажом тащить?.. Замучился
я от волнений…
Копенкин почесал свой худой резкий кадык, словно потроша горло.
— Саша! — сказал он Дванову. — Ты не спи зря: скажи этому элементу, что он
советских законов не знает.
Затем Копенкин мрачно пригляделся к Достоевскому.
— Ты белый вспомогатель, а не районный Ленин! Над чем думает. Да ты выгони завтра
весь живой скот, если у кого он остался, и подели его по душам и по революционному
чувству. Кряк — и готово!
Копенкин сейчас же снова заснул: он не понимал и не имел душевных сомнений,
считая их изменой революции; Роза Люксембург заранее и за всех продумала все — теперь
остались одни подвиги вооруженной руки, ради сокрушения видимого и невидимого врага.
Утром Достоевский пошел в обход Ханских Двориков, объявляя подворно
объединенный приказ волревкома и губисполкома — о революционном дележе скота без
всякого изъятия.
И скот выводили к церкви на площадь, под плач всего имущего народа. Но и бедняки
страдали от вида ноющих хозяев и жалостных старух, а некоторые из неимущих тоже
плакали, хотя их ожидала доля.
Женщины целовали коров, мужики особо ласково и некрепко держали своих лошадей,
ободряя их, как сыновей на войну, а сами решали — заплакать им или так обойтись.
Один крестьянин, человек длинного тонкого роста, но с маленьким голым лицом и
девичьим голосом, привел своего рысака не только без упрека, а со словами утешения для
всех тоскующих однодеревенцев:
— Дядя Митрий, чего ты? — высоко говорил он грустному старику. — Да пралич ее
завозьми совсем: что ты, с жизнью, что ль, без остатка расстаешься? Ишь ты, скорбь какая —
лошадь заберут, да сатана с ней, еще заведем. Собери скорбя свои обратно!
Достоевский знал этого крестьянина: старый дезертир. Он в малолетстве прибыл
откуда-то без справки и документа — и не мог быть призванным ни на одну войну: не имел
официального года рождения и имени, а формально вовсе не существовал; чтобы обозначить
его как-нибудь, для житейского удобства соседи прозвали дезертира Недоделанным, а в
списках бывшего сельсовета он не значился. Был один секретарь, который ниже всех
фамилий написал: «Прочие — 1; пол: сомнительный». Но следующий секретарь не понял
такой записи и прибавил одну лишнюю голову к крупнорогатому скоту, а «прочих»
вычеркнул абсолютно. Так и жил Недоделанный общественной утечкой, как просо с воза на
землю.
Однако недавно Достоевский чернилами вписал его в гражданский список под
названием «уклоняющегося середняка без лично присвоенной фамилии», и тем прочно
закрепил его существование: как бы родил Недоделанного для советской пользы.
Степная жизнь шла в старину по следам скота, и в народе остался страх умереть с
голоду без скота, поэтому люди плакали больше из предрассудка, чем из страха убытка.
Дванов и Копенкин пришли, когда Достоевский начал разверстывать скот по беднякам.