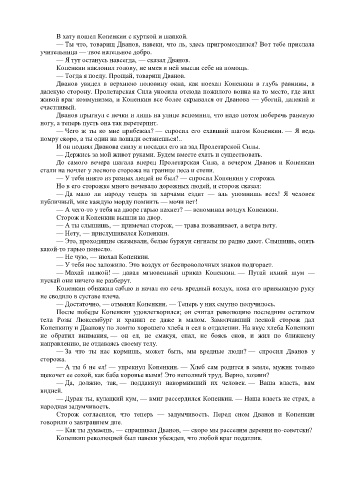Page 58 - Чевенгур
P. 58
В хату пошел Копенкин с курткой и шапкой.
— Ты что, товарищ Дванов, навеки, что ль, здесь пригромоздился? Вот тебе прислала
учительница — твое нательное добро.
— Я тут останусь навсегда, — сказал Дванов.
Копенкин наклонил голову, не имея в ней мысли себе на помощь.
— Тогда я поеду. Прощай, товарищ Дванов.
Дванов увидел в верхнюю половину окна, как поехал Копенкин в глубь равнины, в
далекую сторону. Пролетарская Сила уносила отсюда пожилого воина на то место, где жил
живой враг коммунизма, и Копенкин все более скрывался от Дванова — убогий, далекий и
счастливый.
Дванов прыгнул с печки и лишь на улице вспомнил, что надо потом поберечь раненую
ногу, а теперь пусть она так перетерпит.
— Чего ж ты ко мне прибежал? — спросил его ехавший шагом Копенкин. — Я ведь
помру скоро, а ты один на лошади останешься!..
И он поднял Дванова снизу и посадил его на зад Пролетарской Силы.
— Держись за мой живот руками. Будем вместе ехать и существовать.
До самого вечера шагала вперед Пролетарская Сила, а вечером Дванов и Копенкин
стали на ночлег у лесного сторожа на границе леса и степи.
— У тебя никто из разных людей не был? — спросил Копенкин у сторожа.
Но в его сторожке много ночевало дорожных людей, и сторож сказал:
— Да мало ли народу теперь за харчами ездит — аль упомнишь всех! Я человек
публичный, мне каждую морду помнить — мочи нет!
— А чего-то у тебя на дворе гарью пахнет? — вспоминал воздух Копенкин.
Сторож и Копенкин вышли на двор.
— А ты слышишь, — примечал сторож, — трава позванивает, а ветра нету.
— Нету, — прислушивался Копенкин.
— Это, проходящие сказывали, белые буржуи сигналы по радио дают. Слышишь, опять
какой-то гарью понесло.
— Не чую, — нюхал Копенкин.
— У тебя нос заложило. Это воздух от беспроволочных знаков подгорает.
— Махай палкой! — давал мгновенный приказ Копенкин. — Путай ихний шум —
пускай они ничего не разберут.
Копенкин обнажил саблю и начал ею сечь вредный воздух, пока его привыкшую руку
не сводило в суставе плеча.
— Достаточно, — отменял Копенкин. — Теперь у них смутно получилось.
После победы Копенкин удовлетворился; он считал революцию последним остатком
тела Розы Люксембург и хранил ее даже в малом. Замолчавший лесной сторож дал
Копенкину и Дванову по ломтю хорошего хлеба и сел в отдалении. На вкус хлеба Копенкин
не обратил внимания, — он ел, не смакуя, спал, не боясь снов, и жил по ближнему
направлению, не отдаваясь своему телу.
— За что ты нас кормишь, может быть, мы вредные люди? — спросил Дванов у
сторожа.
— А ты б не ел! — упрекнул Копенкин. — Хлеб сам родится в земле, мужик только
щекочет ее сохой, как баба коровье вымя! Это неполный труд. Верно, хозяин?
— Да, должно, так, — поддакнул накормивший их человек. — Ваша власть, вам
видней.
— Дурак ты, кулацкий кум, — вмиг рассердился Копенкин. — Наша власть не страх, а
народная задумчивость.
Сторож согласился, что теперь — задумчивость. Перед сном Дванов и Копенкин
говорили о завтрашнем дне.
— Как ты думаешь, — спрашивал Дванов, — скоро мы расселим деревни по-советски?
Копенкин революцией был навеки убежден, что любой враг податлив.