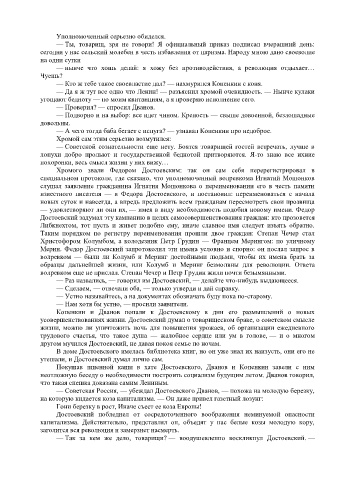Page 60 - Чевенгур
P. 60
Уполномоченный серьезно обиделся.
— Ты, товарищ, зря не говори! Я официальный приказ подписал вчерашний день:
сегодня у нас сельский молебен в честь избавления от царизма. Народу мною дано своеволие
на одни сутки
— нынче что хошь делай: я хожу без противодействия, а революция отдыхает…
Чуешь?
— Кто ж тебе такое своевластие дал? — нахмурился Копенкин с коня.
— Да я ж тут все одно что Ленин! — разъяснил хромой очевидность. — Нынче кулаки
угощают бедноту — по моим квитанциям, а я проверяю исполнение сего.
— Проверил? — спросил Дванов.
— Подворно и на выбор: все идет чином. Крепость — свыше довоенной, безлошадные
довольны.
— А чего тогда баба бегает с испуга? — узнавал Копенкин про недоброе.
Хромой сам этим серьезно возмутился:
— Советской сознательности еще нету. Боятся товарищей гостей встречать, лучше в
лопухи добро прольют и государственной беднотой притворяются. Я-то знаю все ихние
похоронки, весь смысл жизни у них вижу…
Хромого звали Федором Достоевским: так он сам себя перерегистрировал в
специальном протоколе, где сказано, что уполномоченный волревкома Игнатий Мошонков
слушал заявление гражданина Игнатия Мошонкова о переименовании его в честь памяти
известного писателя — в Федора Достоевского, и постановил: переименоваться с начала
новых суток и навсегда, а впредь предложить всем гражданам пересмотреть свои прозвища
— удовлетворяют ли они их, — имея в виду необходимость подобия новому имени. Федор
Достоевский задумал эту кампанию в целях самосовершенствования граждан: кто прозовется
Либкнехтом, тот пусть и живет подобно ему, иначе славное имя следует изъять обратно.
Таким порядком по регистру переименования прошли двое граждан: Степан Чечер стал
Христофором Колумбом, а колодезник Петр Грудин — Францем Мерингом: по уличному
Мерин. Федор Достоевский запротоколил эти имена условно и спорно: он послал запрос в
волревком — были ли Колумб и Меринг достойными людьми, чтобы их имена брать за
образцы дальнейшей жизни, или Колумб и Меринг безмолвны для революции. Ответа
волревком еще не прислал. Степан Чечер и Петр Грудин жили почти безымянными.
— Раз назвались, — говорил им Достоевский, — делайте что-нибудь выдающееся.
— Сделаем, — отвечали оба, — только утверди и дай справку.
— Устно называйтесь, а на документах обозначать буду пока по-старому.
— Нам хотя бы устно, — просили заявители.
Копенкин и Дванов попали к Достоевскому в дни его размышлений о новых
усовершенствованиях жизни. Достоевский думал о товарищеском браке, о советском смысле
жизни, можно ли уничтожить ночь для повышения урожаев, об организации ежедневного
трудового счастья, что такое душа — жалобное сердце или ум в голове, — и о многом
другом мучился Достоевский, не давая покоя семье по ночам.
В доме Достоевского имелась библиотека книг, но он уже знал их наизусть, они его не
утешали, и Достоевский думал лично сам.
Покушав пшенной каши в хате Достоевского, Дванов и Копенкин завели с ним
неотложную беседу о необходимости построить социализм будущим летом. Дванов говорил,
что такая спешка доказана самим Лениным.
— Советская Россия, — убеждал Достоевского Дванов, — похожа на молодую березку,
на которую кидается коза капитализма. — Он даже привел газетный лозунг:
Гони березку в рост, Иначе съест ее коза Европы!
Достоевский побледнел от сосредоточенного воображения неминуемой опасности
капитализма. Действительно, представлял он, объедят у нас белые козы молодую кору,
заголится вся революция и замерзнет насмерть.
— Так за кем же дело, товарищи? — воодушевленно воскликнул Достоевский. —